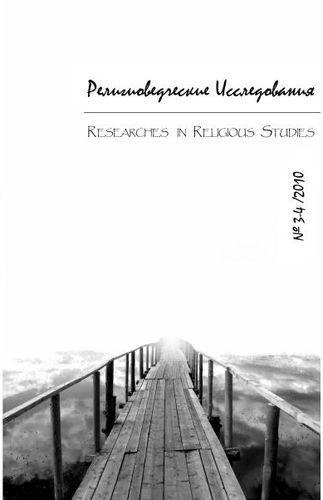Смит Дж. З. История, рассказанная дважды: история истории «истории религий» // Религиоведческие исследования. 2010: №3-4. — С. 29-38.
В полузабытой пьесе Шекспира Король Иоанн (III, 4 строка 108)[1], переводе Одиссеи, выполненном Уильямом Брумом в восемнадцатом веке (XII.538)[2], а также в названии первого опубликованного сборника рассказов Натаниела Готорна, эта фраза («история, рассказанная дважды») обозначает нечто скучное. Напротив, для тех из нас, кто изучает религию, дважды рассказанное или дважды исполненное понимается как важнейшая характеристика ключевых элементов религии: мифа и ритуала. Сам факт повторения указывает на значимость. Мы даже претендуем на большее. Согласно определению Джейн Харрисон, миф (или ритуал) – это «повторенная репрезентация»[3], удваивающая рассказанное дважды или исполненное дважды.
 Формулировка Харрисон напоминает нам о природе нашей науки. Как и в науках о человеке в целом, в религиоведении небольшой префикс «ре-», возможно, является качественным определением нашей работы. Этот префикс свидетельствует, что мы понимаем вторичный характер нашей работы и социальную природу объектов нашего исследования. Мы вос-производим эти повторяемые, существующие в культурах, ре-презентации, которые и составляют предмет нашего исследования.
Формулировка Харрисон напоминает нам о природе нашей науки. Как и в науках о человеке в целом, в религиоведении небольшой префикс «ре-», возможно, является качественным определением нашей работы. Этот префикс свидетельствует, что мы понимаем вторичный характер нашей работы и социальную природу объектов нашего исследования. Мы вос-производим эти повторяемые, существующие в культурах, ре-презентации, которые и составляют предмет нашего исследования.
Я говорю об этом в начале статьи, дабы сделать очевидным допущение, которое ляжет в основание моих наблюдений. Историю «истории религий» не следует понимать как освобождение от гегемонии теологии – нашей бледной версии обтрепанной легенды о происхождении науки, совершившемся в Афинах V в. д.н.э. или в Европе XVI столетия, легенды, которая описывает науку, сбрасывающую оковы господствующего религиозного мировоззрения. Нашу версию этой рассказанной дважды истории нужно отбросить, и не потому, что представленное таким образом освобождение было (и история знает этому массу примеров) иллюзией, но в большей степени из-за того, что этот способ пересказывать историю скрывает более фундаментальную проблему, разделяющую нас на два противоборствующих лагеря. Говоря кратко, – это спор между сторонниками понимания религии, основанного на реальном присутствии, и теми, кто понимает ее как репрезентацию. Но я забегаю вперед…
Как любую историографическую дисциплину, историю истории религий можно представить множеством способов, каждый из которых будет соответствовать интересам своего создателя. Все они достаточно последовательны, но при этом в действительности они представляют собой вариации двух противоположных стратегий: эксцепционализма и ассимиляционизма. Каждая из них по своему стремится к легитимации и стремится найти для религиоведения в системе признанных академических дисциплин. Эксцепционалист настаивает на обособленности (или уникальности) предмета религиоведения, ассимиляционист настаивает на равноценности или равноправии методов религиоведения и других гуманитарных наук. В обоих случаях избирается генеалогическая модель репрезентации; список школ и их основателей приобретает на диаграмме вид перевернутого дерева. Данная модель характерна одновременно для биологии и лингвистики (не будем вдаваться в дискуссию, какая наука заимствовала схему у другой), и в обеих науках сегодня подвергается строгой критике, и на ее место встает более расплывчатая, запутанная, многоаспектная и интерактивная модель репрезентации. Например, эволюционный биолог Ф. Дулиттл в недавней статье, озаглавленной «Выкорчевывая древо жизни», пишет, что современная схема происхождения жизни «скорее напоминает не дерево, а спагетти, накрученные на вилку ». Сходным образом мы можем сослаться на критику К. Ренфрю и Б. Линкольном древовидной диаграммы индоевропейских языков, которая отчасти основана на теории волн Шухардта и Шмидта[4]. По этой причине, используя общепринятую периодизацию, я буду настаивать на том, что границы между периодами явлениями прозрачны и что восприниматься они должны как полиморфные феномены. Так, например, следует говорить о многих Ренессансах и брать на себя сложную работу по определению того, о каком именно Просвещении будет идти речь.
Эта историографическая дискуссия весьма интересна, но, одновременно, она в некотором смысле вводит нас в заблуждение; с точки зрения такой схематизации, особую роль в религиоведении играют случайные эпизоды рефлексивного дискурса (метадискурса), притом, что в «нормальной науке» такую роль играет ежедневная деятельность. Если же мы начнем с нуля, то возникнет некое новое сочетание характеристик, которое породит новый тип повествований истории истории религии, а также новое представление об актуальности различных аспектов дискурса второго порядка.
Если марсианин, незнакомый со спорами XVII и XIX столетий о классификации академических дисциплин, увидит религиоведов за работой, ему не составит труда определить, к какому классу они принадлежат. Говоря о практической стороне нашей деятельности, история религий в общем и целом – есть филологическая работа по редактированию, переводу и интерпретации текстов, большинство из которых воспринимается в перспективе диалектики «ближнего» и «дальнего». В этом смысле область наших исследований является порождением Ренессанса[5].
Конечно, вечная страсть историка – всматриваться в прошлое подсказывает, что и у ренессансных мыслителей есть предшественники, но именно различные проекты, связанные с различными Ренессансами, формируют программу исследования в нашей области. Первым пунктом этой программы является совершенное владение другими языками, инаковость которых может иметь как временной, так и пространственный аспект. Данная черта все еще является отличительным признаком нашей науки среди других академических дисциплин. Во-вторых, существует убеждение, связанное с этимологией, что есть некая исключительная ценность, спрятанная «внутри» слов, нечто сущностное и противопоставленное вербальному как случайному, нечто, что может быть раскрыто только в результате дешифровки; или же существует похожее на него убеждение, связанное с риторикой, что данность «подлинного» сокрыта «внутри» слов. На этой убежденности основан третий пункт, который представляет собой противостояние между восприятием единства и многообразия культур. Решение этого конфликта достигается при помощи постулирования сущностного сходства перед лицом случайного различия. Эти случайные различия следует объяснять или через отличия внешних условий их существования, или на основании различных исторических процессов. Эти вопросы актуальны благодаря бурному росту разнообразных данных, и каждый из них – это продукт специфических, европейских, исторических причин. Приведем три примера.
1. Перемещение еврейских и греческих рукописей на Север и Запад, последовавшее за падением Константинополя и изгнанием евреев из Испании, так или иначе связанных с исламской экспансией, познакомило исследователей Ренессанса с иным по природе прошлым, далеким и глубоко отличным от тогдашнего европейского настоящего. Это прошлое было доступно только через воображение.
2. Европейские колониальные и миссионерские экспедиции в обе Америки, равно как в Азию и Африку, породили множество непредвиденных последствий. Неожиданное существование двух Америк подорвало классическое библейское и античное представление о населенной земле как трехчастном мире-острове, впервые породив интеллектуальную проблему биологических различий как возможного признака инаковости[6]. Были ли Американские континенты сотворены отдельно от остальных? Были ли жители Америк потомками Адама и Евы? В случае обеих Америк и Африки результатом стало производство этнографических текстов, в которых европейские понятия заменяли и поясняли туземные термины[7]. В случае Азии принципиально отличным результатом стали сбор и перевод важных текстов с неизвестных до тех пор языков[8]. Сюда же следует прибавить контакты в Азии с теми ветвями христианства, общение с которыми было прервано в XIII веке, и отличия которых от привычных европейских форм христианства часто воспринимались как большая угроза, чем туземные религии.
3. Этот последний факт попал в резонанс с аналогичным европейским явлением, когда многочисленные расколы между протестантскими деноминациями породили множество вопросов относительно религиозной веры. Эти претензии на авторитет сделали невозможными прежние ересиологические объяснения внутренних различий[9].
В каждом из этих случаев языки и религии стали привилегированными элементами культуры, в которых особенно сильно проявлялись противоречия между единством и различием. Как уже было отмечено, чаще всего господствующая лингвистическая модель противопоставления сущностного и случайного применялась к решению этого вопроса в религии. Поэтому здесь получил особое значение спор по вопросу, который затем стал вопросом о «религии» или «религиях». Осведомленность в существовании многих «религий» как христианских, так и нехристианских усилило интерес к конструированию некоей единичной, родовой «религии». В качестве показательного примера этого ренессансного интереса приведу работу Э. Бреревуда «Исследование о различии языков и религий в главных частях света» (опубликованную посмертно, в 1614 году), насколько я понимаю, вторую работу на английском языке, в названии которой слово «религия» используется во множественном числе[10]. Есть также и вторая причина, по которой Бреревуда (теперь уже как человека, а не как автора) можно представить как образец ренессансного восприятия. Как и многие не церковные авторы, писавшие на тему религии до середины XIX столетия, Бреревуд был любителем (amateur), публиковавшим работы не только по вопросам языка или религий, но также и античности (в особенности по нумизматике), математике и логике. Можно утверждать, что последующая профессионализация религиоведения, сообща с другими предметными областями, породила новые дисциплинарные горизонты с их собственными методологическими и теоретическими интересами, в которых, по большому счету, не было ничего, специфически религиоведческого. В особенности, я говорю о претензии на самобытность (sui generis) предмета исследования религиоведения, претензии, которая в конце XIX – начале XX вв. была характерна для зарождающихся социальных наук.
Ренессансная модель видоизменилась благодаря Просвещению, контрпросвещению и романтическим теориям языка и религии, которые стали преддверием современного религиоведения. Оговорюсь, что здесь я остановлюсь только на одной траектории развития лингвистической теории, унаследованной наукой о религии.
Внимание Просвещения к языку было побочным продуктом его интереса к мышлению, этот интерес должен быть присущ любому религиоведу, которому, однако, следует избегать специфических просвещенческих формулировок. Например, единство и единообразие оценивались как универсальность, а всякое различие осуждалось как иррациональное. Представление об абстрактном, универсальном «человечестве» предполагало возможность существования столь же абстрактного, универсального языка, в котором все будет прозрачно, и для которого дешифровка будет излишней[11]. Язык, таким образом, понимался как вторичный инструмент для выражения мысли, и по мере развития мышления происходило постепенное очищение языка. Согласно одному из источников XVIII века, язык «будучи полностью изобретением человека, первоначально должен был быть грубым и несовершенным, и по мере того, как разум приобретал все большую действенность и остроту, язык постепенно достигал все большей степени совершенства»[12]. Единственный вопрос был, достигается ли развитие языка за счет контроля процесса обозначения или за счет регулирования грамматики.
Контрпросвещение разрабатывает вопрос о мышлении под новым углом, который в недостаточной мере был воспринят религиоведами[13]. Утверждалось, что язык не является вторичным именованием или запоминанием, он также не является переводом мысли, он не вторичен по отношению к опыту, скорее язык – это единственный способ нашего мышления и приобретения опыта. Сама концепция гуманитарных наук стала возможной благодаря восприятию доводов контрпросвещения, что предметы их изучения – это языковые или подобные языку системы, и, следовательно, они представляют собой изучение «исключительно социальной» деятельности человека. Именно здесь берет начало тот факт, на который я сослался в начале статьи: убеждение в том, что основная проблематика религиоведения вращается вокруг отношений языка и опыта. Возник целый рад вопросов: возможен ли непосредственный опыт, или он всегда опосредован? Можем ли мы воспринимать мир независимо от его социальной репрезентации? Остается ли префикс «ре-» в слове «репрезентация» только уровнем ре-презентации? Эти вопросы формируют серьезные теоретические проблемы, которые подразделяют всех исследователей религии согласно стандартному, почти политическому, критерию на историков религии и теологов.
Для определенной части крупных теоретиков религиоведения, два аспекта романтической теории языка показали себя наиболее убедительными. В первую очередь, возвращение (в противовес традиции Просвещения) к пониманию исключительной ценности уникальности, единичности и индивидуальности, во имя творческого и свободного выражения воли. Во-вторых, и этот принцип более значим, признание поэтического языка (в отличие от языка прозаического) как непрагматической автономной тотальности, вещью-в-себе. С этой точки зрения, между означающим и означаемым не существует разрыва. Контрпросвещенческий отказ от понимания языка как вторичной системы превращается романтиками в прозрачность само раскрытия. От поэзии до мифа – один небольшой шаг; Шеллинг показал это наилучшим образом:
Ведь каждый её образ должен быть понят как то, что он есть, и лишь благодаря этому он берётся как то, что он обозначает. Значение здесь совпадает с самим бытием, оно переходит и в предмет, составляет с ним единство. Как только мы заставляем эти существа нечто обозначать, они уже сами по себе перестают быть. Однако реальность составляет у них одно с идеальностью, и поэтому если они не мыслятся как действительные, то разрушается их идея, понятие о них. Их величайшую прелесть составляет именно то, что, хотя они просто суть безотносительно к чему бы то ни было, абсолютные в самих себе, всё же сквозь них в то же время неизменно просвечивает значение[14].
Мифология – не аллегорична, она тавтегорична. Боги для нее – действительно существующие существа, которые вовсе не что-то иное, которые не значат ничего иного, но значат лишь то, что они есть.[15]
Аллегория, бывшая в течение целого тысячелетия одним их главных методов интерпретации мифа, теперь свержена с престола; герменевтика «говорения-наоборот» сделала возможным прямое понимание речи Другого[16]. Романтизм заложил основание одной из отличительных черт ряда влиятельнейших теорий религий XX века, в которых история религий, оставаясь в сущности филологической дисциплиной, совсем не игнорирует современную лингвистику, подвергая сомнению статус языка в его попытке защитить онтологию от антропологии и сохранить приоритет непосредственного опыта.
Таким образом, кратко очертив исторический и теоретический контексты, позвольте мне перейти к рассмотрению некоторых результатов стремления располагать историю религии в рамках филологии и более точного определить его место внутри ренессансной и романтической лингвистики, с точки зрения как теории, так и практики.
Мы можем вспомнить критику М. Элиаде в адрес основных моделей исследования религии, сделанную в ходе размышления о прошлом и будущем нашей дисциплины. Ученые-гуманитарии, далекие от истории религии, знают, что Элиаде порицал их за редукционизм. Менее известно, что он называл своих оппонентов «филологами». Я рассмотрю эти два понятия из черного списка Элиаде в обратном порядке.
С точки зрения Элиаде, историки религии, основывающие свои исследования на филологии, постоянно принимают часть за целое, ставят во главу угла локальное, а не типичное или общее. Он опасался, что чрезмерное внимание к языкам в нашей науке приведет к ситуации, где «история религий будет раздроблена на бессчетные фрагменты, а эти фрагменты, в свою очередь, будут снова поглощены различными филологическими дисциплинами»[17]. В некоторой степени, так и произошло, и это повлекло за собой новый этос партикуляризма, противостоящего объединительным тенденциям, время от времени оживляющим нашу науку. Но можно сказать и больше.
Обычно попытки повышения профессионального уровня – по мере сил и способностей – в сложных языках наблюдаются в аспирантуре (graduate studies). Такое изучение языка являет нам одно из самых больших достижений в образовании за последние двести лет, однако в итоге занятия языком поглощают непропорциональное количество времени в курсе подготовки историков религии. В то время как сертифицированное владение языком стало критерием профессионализма, другие навыки, прежде всего способность критически отнестись к теоретическому дискурсу, оказываются на периферии внимания. Филология – это призвание (vocation); обобщение и теория – хобби (avocation). Такое положение дел привело к массовому принятию дескриптивного дискурса, основанного на здравом смысле, в качестве главной стратегии исследовательской работы.
Можно указать на несколько родов деятельности, симптоматичных для этого типа дискурса, где вся работа сводится к самоочевидным, остенсивным операциям. На тексты ссылаются, тексты перефразируются или пересказываются, как будто их цитирование само по себе гарантирует значимость работы. Когда перевод сделан, в нем явно не просматривается какая-либо теория перевода; точное воспроизведение оригинала и последовательность терминологии считаются ценными сами по себе. Сравниваются только те тексты, которые имеют общее происхождение или возникли в одном регионе.
Остенсивный характер этой работы выполняет защитную функцию. Благодаря этому сохраняется единство и целостность предмета исследования. По аналогии с жертвенником Моисея, эта деятельность гарантирует, что работы ученых будут строиться из «камней цельных», что запрет – «…не подними на них железа» (Втор 27:5-6) будет набожно соблюден; что, как в Храме Соломоновом «ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Цар 6:7). Благодаря этой работе, ремесло исследователя маскируется с тем, чтобы выставить себя в качестве «дома нерукотворного» (Деян 7:48)[18]. Одной из причин такого подхода является, как указал М.М. Бахтин, внимание филолога к «научению мертвым и потому, как все мертвое, фактически единым языкам»[19]. Также такой подход основывается на глубоко укорененном этосе, который Карл Манхейм охарактеризовал в своей знаменитой работе по социологии знания «консервативной» идеологией, «правой методологией», которая подчас использует «морфологические категории, которые направлены не на то, чтобы расчленять непосредственно воспринятый объект в его целостности (concrete totality), а на то, чтобы попытаться удержать его в его неповторимости. В отличие от этого морфологического подхода, – писал К. Манхейм, – для мышления левых направлений того времени[20] характерен аналитический метод, посредством которого расщепляется каждое непосредственно данное целое, чтобы тем самым определить элементы, допускающие новые комбинации»[21]. В последнем случае исследователь постоянно поднимает железо над жертвенником. Результат в таком случае более не может мыслиться как «естественный», скорее предстает в качестве некоей конструкции. Вопрос о том, информативен ли этот конструкт или, напротив, вводит нас в заблуждение, зависит не от когерентности. В действительности он зависит от критического исследования, которое позволяет оценить прибыль или убыток в когнитивном плане, которые возможны благодаря отличию и несхожести конструкта от того, что К. Манхейм называл «непосредственно воспринятым объектом в его целостности»[22]. Конструкция – это в большей степени репрезентация, нежели реальное присутствие.
Следует также обратить внимание на описание К. Манхеймом аналитического метода как «поиска элементов, допускающих новые комбинации»[23]. Религиоведы в неполной мере используют понятие «генерализация», этот латинский неологизм, восходящий к аристотелевскому разграничения рода (genus) и вида (species), от последнего из которых происходит термин «специализация» как антоним «генерализации». В учебниках по логике «общее» (general) противопоставляется «универсальному», так как допускает существенные исключения. Генерализация понимается как интеллектуальная, сопоставительная, направленная на создание классификаций деятельность, которая сосредотачивает внимание на совместное присутствие заранее избранных характеристик и игнорирует прочие. Обе названные черты, а именно, не универсальность и избирательность, являются основополагающими для генерализации. В действительности из роль часто преувеличивают, что ведет к употреблению термина «генерализация» в уничижительном смысле, как синонима «неопределенности». Если эти характеристики использовать правильно, то они гарантируют, что обобщения поддаются исправлению[24]. В этом контексте предметом нашего интереса будет «религия», как родовое имя общей антропологической категории, номиналистический, интеллектуальный конструкт, который, естественно, не следует рассматривать как некую «реальность». В таком понимании, конечно же, никаких родов не существуют.
Здесь настало время обратиться к помощи современных лингвистических теорий. Научное конструирование «религии» как интеллектуальной категории должен формировать горизонт религиоведения, в той же мере, в какой термин «язык» формирует горизонт лингвистики или термин «культура» – антропологии. В каждом из этих случаев родовая категория предоставляет дисциплине теоретический объект исследования, отличный от частных предметов исследования, но дополняющий их. Рассматривая только аналогию с языком, Х. Пеннер настойчиво напоминает нам о значении проекта Ф. де Соссюра[25], целью которого было «показать лингвисту, что он делает», сознательно противопоставляя лингвистику тому, что Соссюр называл «этнографической стороной языка»[26]. Вот как это было описано одним исследователем языка:
Соссюр – без сомнения, был одним из первых, кто заявил о необходимости совершить в лингвистике то, что Кант называл коперниканским переворотом.[Соссюр] разграничивает предметную область лингвистики – поле лингвистического исследования, которое содержит в себе все множество явлений, в большей или меньшей степени связанных с употреблением языка – и его объект… Роль общей лингвистики… – состоит в том, чтобы создать концепции, которые позволили бы нам в ходе конкретного исследования любого языка, разглядеть объект в предметной области.
Важно помнить, что методологическое разграничение Ф. де Соссюра «языка» и «речи» разделяют большинство лингвистов, несмотря на острые споры об определении этих терминов, а также об адекватных критериях, позволяющих различить эмпирическую предметную область и теоретический объект исследования. Иначе говоря, формулировка одновременно и спорна, и поддается корректировке. Именно этот спор об объекте привел к самым важным теоретическим достижениям в лингвистике.
Рассмотрим этот вопрос под другим углом. Религиоведение более упорно, чем другие науки, настаивает на идее одной из ветвей неокантианства о том, что разделение наук на гуманитарные и естественные основывается на способе объяснения, а не интерпретации. Естественные науки, в одной из ранних формулировок, отдают привилегии общему (через соотнесение с имеющими форму законов суждениями), гуманитарные – индивидуальному или даже уникальному. Считалось, что каждая наука располагает своим собственным материалом и своей предметной областью. Намного более плодотворной является альтернативная модель, восходящая к другой ветви неокантианства, которая рассматривала два выше названных подхода как альтернативные способы рассмотрения одного и того же материала одной и той же предметной области[27]. Оба подхода использовали термин «редукция» – и нигде он не имел такого значения, как в религиоведении – как в некотором смысле двойственный код, маркирующий различие между генерализирующим и индивидуализирующим методами. В естественных науках редукция оценивалась положительно, в большинстве гуманитарных наук она отвергалась. Эта точка зрения – время от времени возносимая до высот этического обвинения – является (и уже была в течение некоторого времени) совершенно неприемлемой.
Как объяснения, так и интерпретации возможны благодаря неожиданности. Именно специфическая предметная область делает неожиданность возможной для каждого ученого. Как в естественных, так и в гуманитарных науках неожиданность всегда ограничена сведением неизвестного к его отношению к известному. Как в естественных, так и в гуманитарных науках это возможно благодаря переводу: предполагается, что концептуальный язык второго уровня, приемлемый в одной сфере (известное/знакомое), можно использовать для перевода концептуальных языков второго уровня, приемлемых в другой сфере (неизвестное/незнакомое). Пожалуй, лучшим образцом применения такой процедуры в религиоведении является перевод Дюркгеймом языка религии (в данном случае понимаемого как неизвестное) на язык общества (понимаемый как известное). Момент, в котором можно не соглашаться с Дюркгеймом, – это его установка на достижение простоты в объяснении. Формулировка Леви-Стросса подойдет здесь лучше: «Научное объяснение состоит не в переходе от сложности к простоте, а в замене менее умопостигаемой сложности на более умопостигаемую»[28].
Естественно, приемлемость любого перевода можно оспорить, тем более что в религиоведении отсутствует разработанная теория перевода. Однако полностью отвергнуть эту процедуру можно лишь отрицая саму возможность перевода, что, как правило, достигается через обращение к идее о несопоставимости одного языка другому. Такие обращения, если мы их принимаем, влекут за собой вывод, что гуманитарные науки, строго говоря, невозможны[29].
Я отмечу только два следствия выше сказанного. Во-первых, перевод относится к сфере языка и, следовательно, неизбежно является социальной деятельностью, проблемой общественного значения, а не индивидуального смысла. В религиоведении сферой общественного является в первую очередь академическое сообщество, и, соответственно, основным вопросом здесь становятся определение отношения изучения «религии» и других направлений исследования, а именно вопрос о местоположении относительно других участников дискуссии, с которыми религиоведам предстоит выработать единые правила перевода. Второе следствие состоит в том, что перевод не может быть до конца точным (идет ли речь о концептуальном или естественном языке, интер- или интракультуральном). Вновь вспоминая термин Шеллинга (позаимствованный им у Кольриджа), можно сказать, что перевод никогда не может быть «тавтегоричным». Всегда будут расхождения. (Вспоминая старую истину, «Переводить – значит клеветать»). Главными для любого переводчика становятся вопросы уместности и «пригодности», вопросы, которые должны пройти через двойное методологическое «сито» сравнения и критики.
Естественно, когнитивная сила любого перевода, модели, карты, обобщения или повторного описания – например, при конструировании «религии»- не заключается в их когерентности. В данном случае – это результат их отличия от предметной области. Такой вывод, в общем и целом, отвергался практически на всем протяжении истории «истории религий». Но это сопротивление имело свою цену. Слишком многие работы религиоведов представляют собой пересказы, академическую версию ритуального повторения, которые в действительности являются жалкими подобиями перевода, в недостаточной для целей науки степени отличающимися от предмета своего исследования. Итак, теория, модель, концептуальная категория, обобщение не могут существовать просто как более понятным языком переписанный исходный вариант.
В качестве альтернативы можно настаивать на точке зрения, которая сделает нашу рассказанную дважды историю и в самом деле скучной, а именно настойчиво отрицать, что наука основывается на конструировании теоретического предмета своего исследования, настаивать, что она основана на исследовании уникальной реальности, которая не приемлет иной формы перевода, кроме пересказа. Это значит – соглашаться с довольно странным «тавтегорическим» утверждением, которое в последний раз прозвучало в описании истории религий как науки, созданном в Университете Чикаго в 1960-61 гг: «“История религий” утверждает, что возможны веские доводы в пользу интерпретации трансцендентного как трансцендентного»[30]. Это выражение, в котором негласно признается несоизмеримость языков и невозможность перевода, отрицает когнитивную ценность различия. Такая постановка вопроса обрекает религиоведение жить в мире борхесовского Пьера Менара, где пересказать историю можно только слово в слово, а любое слово можно перевести только им самим[31].
Черновой перевод с английского языка выполнен С. Салтановым, редактура перевода – И.Ю. Мирошников и Р.О. Сафронов по изданию: Smith J.Z. A Twice-Told Tale: The History of the History of Religions’ History // Numen. – Vol. 48, №2 (2001). – P. 131-146.
[1] Несносна жизнь, как выслушанный дважды, // В унылый сон вгоняющий рассказ (пер. Н. Рыковой).
[2] Но что мне про это // Вам говорить? Ведь вчера уж об этом о всем рассказал я // В доме тебе и прекрасной супруге твоей. Неприятно // Снова подробно о том говорить, что уж сказано было (пер. В.А. Жуковского).
[3] Harrison J. Ancient Art and Ritual. –Oxford: 1918. – P. 42.
[4] Древовидная диаграмма или ее перевернутая версия были долгое время популярны в биологических и лингвистических репрезентациях. Об этом см.: Biological Metaphor and Cladistic Classification: An Interdisciplinary Perspective / ed. by H.M. Hoenigswald and L.F. Wiener. –Philadelphia:1987. См. также: Doolittle W.F. Uprooting the Tree of Life // Scientific American (Feb. 2000) из The New York Times(June 13, 2000), полоса 2. Критику древовидных схем в индоевропейской лингвистике см.: Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins. –Cambridge: 1987, и Theorizing Myth: Narrative, Ideology and Scholarship. –Chicago: 1999. – P. 211-216. Теоретическую основу «волновой теории» см.: Family Tree, Wave Theory, and Dialectology // Orbis, №2 (1953), p. 67-72. Эта теория восходит к следующим работам: Der Vokalismus des Vulgärlateins. –Leipzig: 1868, vol. 3; Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. –Weimar: 1872.
[5] См., прежде всего, Demonet M.-L. Les voix du signe: Nature du langage àla Renaissance, 1480-1580. –Paris;Geneva: 1992.
[6] Об этом см.: What A Difference A Difference Makes // To See Ourselves As Others See Us: Christians, Jews, «Others» in Late Antiquity / Ed. by J. Neusner & E.S. Frerichs. –Chico: 1985. – P. 3-48 ; Smith, Close Encounters of Diverse Kinds // Religion and Cultural Studies / Ed. byS. Mizruchi. –Princeton: 2000.
[7] Наиболее ранняя работа, посвященная автохтонным религиям Америки, см.: Ramón Pané Relación acera de las antigüedades de los indios (ca. 1495). См. также: Bourne E.G.Columbus, Ramon Pane and the Beginnings of American Anthropology. –Worcester: 1906: offprint, Proceedings of the American Antiquarian Society; Fray Ramón Pané Relación…, ed. J.J. Arrom. – Mexico City: 1988. Согласно устному сообщению Луиса Гейтса, одному из исследовательских проектов удалось восстановить арабскую рукопись 1453 года, созданную в университете Тимбукту и посвященную автохтонным религиям Африки. В данном случае мы имеем дело с ранним примером неевропейского экспансионизма.
[8] Наиболее пригодным введением в вопросы исследования азиатских языков в Европе является следующее многотомное издание: Asia in the Making ofEurope. – Chicago: 1965-93.
[9] О внутренних и внешних различиях см.: Religion, Religions, Religious // Critical Terms for Religious Studies / Ed. by M.C. Taylor. –Chicago: 1998, в особенности p. 270-276.
[10] Brerewood E. Enquiries Touching the Diversity of Languages and Religions through the Chiefe Parts of the World. –London: 1614. Первой работой, в заглавии которой слово «религия» используется во множественном числе является следующая: Purchas S. His Pilgrimage, or, Relations of the World and the Religions observed in all Ages and all Places discovered. –London: 1613.
[11] О лингвистических проблемах эпохи Просвещения см.: Aarsleff H. From Locke to Saussure: Essays on the Study of Language and Intellectual History. – Minneapolis: 1982; Он же. The Study of Language inEngland 1780-1860. –Minneapolis: 1983; Formigari L. L’esperienza e il segno: La filosofiadel linguaggio tra Illuminismo e Restaurazione. –Rome: 1990. О проблеме универсальности см.: Eco U. The Search for the Perfect Language. –Oxford: 1997.
[12] Статья «Language» в первом издании Британской Энциклопедии [The Encyclopaedia Britannica, 1st ed. –Edinburgh: 1771. – Vol. 3, p. 863].
[13] Я заимствую термин «контрпросвещение» у И. Берлина. См.: Berlin I. The Magus of the North; J.G. Hamann and the Origins of Modem Irrationalism. –New York: 1994.
[14] Рус. пер. по: Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – С. 110-111.
[15] Рус. пер. по: Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2тт. – М., 1987. – Т.2. – С.325.
[16] См.: Todorov T. Theories of the Symbol. –Ithaca: 1982. – P. 147-221. Заметим, что Шеллинг заимствует термин «тавтегоричный» у Кольриджа, см.: Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2тт.- М., 1987. – Т.2. – С. 325.
[17] Eliade M. Crisis and Renewal in History of Religions // History of Religions, №5 (1965), p. 17.
[18] Здесь автор в своей манере небрежен с цитатами. В действительности он цитирует близкий фрагмент из 2 Кор 5:1 (прим. перев.).
[19] Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 84-85.
[20] У К. Манхейма речь идет о Германии начала XIX века (прим ред.).
[21] Мангейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994. – С. 228.
[22] Там же.
[23] Там же.
[24] См., напр.: Mill J.S. A System of Logic, 10th ed. –London: 1879. – Vol. 2, p. 127-141, 360-380. Cм. также:Oxford English Dictionary, s.v. ‘general,’ ‘generality,’ ‘generalization,’ ‘generalize.’
[25] Penner H.H. Impasse and Resolution: A Critique of the Study of Religion. –New York: 1989, в особенности p. 130-134.
[26] Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 2002.- С. 52.
[27] См.: Smith J.Z. ToTake Place: Toward Theory in Ritual. –Chicago: 1987. – p. 33-34 и 138-139, а также примечания 48-51.
[28] Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.- С. 309.
[29] См.: Feleppa R. Convention, Translation and Understanding; Philosophical Problems in the Comparative Study of Culture. – Albany: 1988. Х. Пеннер, следуя за Д. Дэвидсоном, настойчиво уверяет в возможности перевода: «Интерпретация – есть перевод. Невозможно помыслить представление, согласно которому кто-то говорит на языке, который невозможно интерпретировать – в языке заложена возможность перевода» (Penner H.H. Interpretation // Guide to the Study of Religion / Ed. by W. Braun & R.T. McCutcheon. – London; New York: 2000. – p. 69. См. также: Penner H.H. Holistic Analysis: Conjectures and Refutations // Journal of the American Academy of Religion, №62 (1994), p. 977-996; Он же. Why Does Semantics Matter to the Study of Religion? // Method and Theory in the Study of Religion, №7 (1995), p. 221-249.
[30] University of Chicago, The Divinity School, Announcements for Sessions of 1960-1961. – Chicago: 1960. [№]3.
[31] См.: Борхес Х.Л. Пьер Менар, автор «Дон-Кихота» // Борхес Х.Л. Проза разных лет: Сборник. – М., 1984.