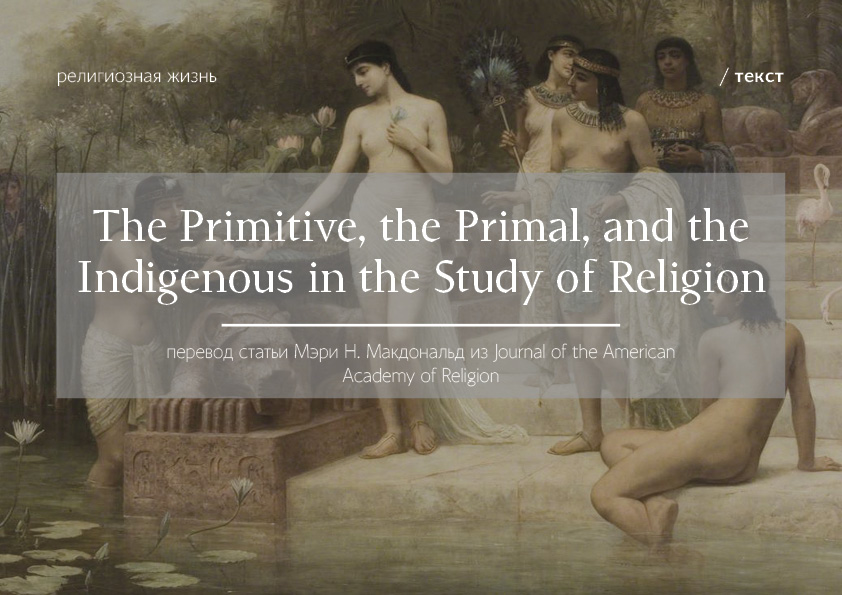НЕКОТОРЫЕ РЕЛИГИИ стали глобальными. То есть, с течением столетий они вышли за пределы своих изначальных мест возникновения и стали потенциально доступными для любого, кто пожелает их принять. Другие — те, что мы называем примитивными, первобытными или коренными — остались неразрывно связанными с культурами, в которых они возникли. Глобальные религии в целом получили признание в рамках религиоведческих исследований. Аргументы в пользу включения коренных традиций в эту область всё ещё выдвигаются, но всё чаще мы видим их в учебных планах факультетов религиоведения. В ответ на книгу Арвинда Шармы 2006 года A Primal Perspective on the Philosophy of Religion я предполагаю, что то, как мы изучаем локальные традиции — с перенниалистской (вечной) позиции или с постмодернистской — определяет то, как мы выбираем их называть. Я рекомендую найти баланс между перенниализмом и постмодернизмом, прислушиваясь к мудрости и тревогам примерно трехсот семидесяти миллионов человек, которых Организация Объединённых Наций относит к коренным народам.
ПЕРВОБЫТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ШАРМЫ
Мы можем быть благодарны Арвинду Шарме за то, что его книга A Primal Perspective on the Philosophy of Religion предоставляет отправную точку для размышлений о месте коренных народов и их образа жизни в современном религиоведении. Эта книга побуждает нас задуматься об истории западного религиоведения и признать неполноту нашего понимания, ограниченность перспектив и предвзятость, с которой мы подходили к исследованию. В предыдущих работах Шарма доказывал, что буддизм, индуизм и другие религии, не относящиеся к иудео-христианскому миру, заслуживают своего места в изучении мировых религий. В «Первобытной перспективе» он призывает нас выйти за рамки так называемых мировых религий, обратить внимание на голоса и духовные проявления коренных народов и включить их в философское осмысление религии. Один из учителей Шармы в его студенческие годы в Сиракузском университете, Хьюстон Смит, высказывал схожую позицию, основываясь на беседах с представителями коренных американских народов. Подобно Шарме, Смит говорит о «первобытных религиях» (Smith, 2006). Я уделю внимание этой формулировке, противопоставив её более раннему понятию «примитивные религии» и тому, как было принято говорить о «коренных религиях». Каждое из этих обозначений имеет своё политическое измерение. Можно сказать, как это делает Чарльз Лонг в статье “Primitive/Civilized: The Locus of a Problem”, что «примитивное» было придумано «цивилизаторами» для утверждения своего превосходства и своей идентичности как цивилизованных (1980). И, в этом же ключе, можно заметить, что «коренное» было сконструировано «примитивными» как попытка исправить несправедливость и заявить о своих правах.
Часто отмечается, что у коренных народов нет слова для обозначения религии — религии в смысле системы институционализированных верований, практик и текстов, отделенных от повседневной жизни. Однако можно задать вопрос: действительно ли религия — это лишь институт, и можно ли её вообще по-настоящему отделить от повседневности? Ритуалы сопровождают жизненные этапы, а мифы отзываются в человеческом сознании. То, что отделяется для целей изучения — это абстракция. Диалог между мировыми религиями, включая первобытные или коренные религии, может помочь нам глубже понять религию как переживаемую реальность, влияющую на поведение отдельных людей и сообществ. Один из собеседников Хьюстона Смита, глубоко размышлявший о понимании религии среди коренных американцев адвокат и учёный Уолтер Эко-Хок говорит: «Религия — это признак человечества. У всех народов, рас и культур есть религия. Она важна, потому что является частью человеческой природы, частью человеческого духа. Неважно, какая раса, страна, культура или эпоха — то, что делает нас людьми, это осознание, что мы — часть более обширной вселенной, и что у неё есть духовная сторона. Убери это — и человек перестаёт быть человеком» (цит. по Smith, 2006: 29).
Понимание религии Эко-Хоком как универсальной человеческой черты во многом соответствует взгляду Шармы и служит, на мой взгляд, подходящей рамкой для изучения религии и обсуждения понятий «примитивное», «первобытное», «коренное».
Мы знаем профессора Шарму прежде всего как исследователя индийских религий. Однако, подобно Мирче Элиаде, чьими работами он восхищается, Арвинд Шарма — человек, интересующийся всеми религиозными феноменами и всеми религиозными традициями. Более того, он интересуется не только теми, кто изучает религию, но и теми, кто её практикует. Это стало очевидно, когда в 2006 году он собрал как последователей, так и исследователей мировых религий1 на конференции в Монреале под эгидой Совета Парламента мировых религий, чтобы осмыслить, как изменилась религия после терактов 11 сентября в США. Его многочисленные статьи и книги охватывают все мировые религии; он исследует роль женщин в религии; он занимается вопросами методологии. Особенно его неизменно интересует философия религии. Если посмотреть на оглавление «Первобытной перспективы», то видно, что он рассматривает классические темы философии религии, такие как идея Бога, проблема зла, концепция откровения, теории веры, проблемы языка, вопросы верификации, противоречивые истины разных религий и участь человека. Затрагивая эти категории, он призывает академическое сообщество учитывать вклад, который могут внести в их осмысление коренные мировоззрения и практики. Он полагает, что серьёзное отношение к коренным традициям может избавить нас от постпросветительского зацикливания на вопросах истины и вернуть академии интерес к поиску смысла.
ПЕРЕВОД
Факт культурных и религиозных различий ставил перед колонизаторами, миссионерами и учёными-религиоведами задачи понимания и перевода. В своей работе 2005 года Religious Studies Comparative Methodology : The Case for Reciprocal Illumination (“Религиоведение и сравнительная методология: аргумент в пользу взаимного прояснения”) Шарма утверждает, что, сравнивая традиции и методы, мы глубже понимаем обе стороны сравнения. Его тезис находит отклик у тех из нас, кто работает в рамках «сравнительных исследований» и «истории религий». Понятие «взаимного прояснения», напоминающее максиму Макса Мюллера «кто знает одну [религию], тот не знает ни одной», актуально не только для академического религиоведения, но и для межрелигиозного диалога, который не менее, если не более, важен. В «Первобытной перспективе» Шарма пишет, что он «пытается включить первобытный религиозный опыт в рамки категорий, используемых в современной философии религии, независимо от того, присутствуют ли такие категории или понятия в самих первобытных религиях» (xi). Таким образом, он берет устоявшиеся категории религиоведения — особенно философии религии — в качестве отправной точки для включения «первобытных» перспектив в изучение религии. Работая в кросс-культурной и межконфессиональной парадигме, мы склонны брать знакомые нам категории за основу и искать, что в другой традиции может им соответствовать — в данном случае, западным категориям. Такой подход становится проблематичным, если мы не сделаем следующий шаг — феноменологический — и не позволим элементам другой традиции говорить на её собственных условиях. Это подводит нас к ключевой задаче сравнительных исследований — переводу.
Шарма понимает свою работу как акт перевода. Он берет коренные идеи и переживания и выражает их на традиционно используемом в философии религии языке. При этом он осознаёт, что жизненные миры и идеи, происходящие из коренных культур, могут не совпадать с терминологией традиционной философии религии. Возможно частичное совпадение, но как быть с радикально иным? Например, как вписать практики колдовства в предложенные Шармой категории? Следует ли понимать их как символические проекции зла на врагов индивида, семьи или культурной группы? Или исследование социальных и политических контекстов, в которых происходит колдовство, откроет другие возможности?
Учёные всегда занимаются переводом — будь то передача результатов полевых исследований своим коллегам или изложение научных выводов для широкой аудитории.
Перевод — это одновременно привлекательное и рискованное дело: мы хотим поделиться тем, что, как нам кажется, мы поняли и пережили, но рискуем ошибиться. Когда речь идёт о представлении «культур» и «религий», действительно ли категории «нашей» дисциплины или традиции лучше всего подходят для этого? Мы можем нанести вред, пытаясь втиснуть представления валпири, йоруба или инуитов о мире в рамки, используемые в философии религии или в различных подразделениях Американской академии религии. Некоторые коренные народы, например, предпочитают говорить не о религии, а о духовности — духовности, укоренённой в связи с землёй.
Те из нас, кто не принадлежит к коренным сообществам, но по тем или иным причинам (которые, возможно, следует подвергнуть критическому осмыслению) изучает эти сообщества, беспокоятся о своей роли наблюдателей и переводчиков. Точны ли мы? Справедливы ли? Не оскорбляем ли? Уважительны ли? Понимаем ли мы по-настоящему? Мы выходим из своих собственных контекстов — будь то светские или религиозные. Если мы христиане, индуисты или мусульмане, то приносим с собой определённые христианские, индуистские или мусульманские рамки и множество установок и точек зрения в исследование. Если мы светские люди, то видим мир иначе, чем люди, чьи мировоззрения мы пытаемся описать и интерпретировать. Мы задаёмся вопросом: стоит ли нам «заключить в скобки» (т.е. временно отложить) своё мировоззрение — или, наоборот, включить его в анализ? Мы можем пытаться переводить идеи коренных религий в категории философии религии, одновременно признавая трудности этого перевода и возможный колониальный характер нашей работы.
Использовать знакомые нам категории и искать в коренных традициях то, что им соответствует — один из способов начать. В то же время мы должны также попробовать использовать коренные категории в качестве отправных точек. Так мы сможем разрушить старые шаблоны, открыть новые системы координат и принять свежие подходы к изучению религии. Например, от коренных народов мы можем научиться думать больше о наших отношениях с природной средой и предпринять шаги к экологическому пониманию религии. А с вниманием вслушиваясь в боль и страдания, принесённые завоеваниями и колонизацией коренным народам, мы можем глубже понять тёмную сторону религии и самого человечества.
Похоже, надежды Шармы на включение коренных традиций в более широкий религиозный диалог совпадают с устремлениями тех, кто почти двадцать лет назад учредил группу «Коренные религиозные традиции» в рамках Американской академии религии. Эти учёные понимали, что во многих коренных традициях нет точных аналогов для категории «религия» или подкатегории «философия религии». Тем не менее, они считали, что существует общее пространство между тем, что академическая наука понимает под религией, и тем, что коренные народы обозначают как “сновидение” (у австралийских аборигенов), “родство со всеми существами (у лакота) или “долг благодарности” (у хауденосауни, или ирокезов). Каждая дисциплина сталкивается с трудностями в наименовании и категоризации элементов культуры — так же, как любой, кто говорит на нескольких языках, иногда затрудняется передать понятия одного лингвистического мира в терминах другого. Тем не менее, было бы полезно для западной системы понятий принять такие уже переведённые формулировки, как ирокезское понятие “благодарности”, представление сиу о “родстве” или австралийское “сновидение”, чтобы обогатить, расширить, а, возможно, и преобразовать философию религии.
НАИМЕНОВАНИЕ: ПРИМИТИВНЫЙ, ПЕРВОБЫТНЫЙ, КОРЕННОЙ
Примитивный, первобытный, коренной — три способа называния: первый использовался колонизаторами, второй — учёными, а третий — самими коренными народами, пострадавшими в результате потрясений колониальной эпохи и сегодня заново формирующими свои идентичности. Народы и религиозные традиции группировались и получали свои наименования в результате конкретных исторических процессов. Так, в эпоху Великих географических открытий европейские путешественники, встречая африканские народы, как правило, считали их нецивилизованными и называли их образ жизни варварским или примитивным. Если и признавалось, что у них есть религия, то она также считалась «примитивной» по сравнению с христианством европейцев. Однако романтики восхищались народами, живущими в гармонии с природой, и в западном воображении возникли в противоположность образу примитивного разные образы «благородного дикаря».
В книге «Первобытная перспектива» Шарма стремится выйти за рамки стереотипов примитивного и благородного дикаря и включить опыт австралийских аборигенов, коренных американцев, африканцев и других народов в разговор о религии и религиях. Он говорит о «первобытной» перспективе или изначальных традициях, тогда как Американская академия религии обозначает группу, изучающую такие традиции, как «группа коренных религиозных традиций». Ещё примерно двадцать пять лет назад было обычным говорить о «примитивной религии». Также использовались выражения «анимизм» (подчёркивающее духовную активность) и «локальные религии» (подчеркивающее укоренённость в конкретном месте). Географически обусловленные термины, такие как африканские религии, религии австралийских аборигенов, религия инуитов и т. п., также применялись при описании и интерпретации практик, верований и мировоззрения отдельных групп людей.
Когда в начале 1990-х годов была создана Группа коренных религиозных традиций при Американской академии религии, некоторые из тех, кто предложил её создание и подписал петицию в её поддержку, ранее участвовали в трёхлетних семинарах по теме, названной «Первобытная духовность». Эти семинары проходили в Гонолулу и были организованы Ту Веймингом из Гарвардского университета, который тогда возглавлял Восточно-Западный центр. Стивен Фризен, который помогал в организации семинаров, позднее отредактировал некоторые из представленных докладов в сборнике “Предки в религии постконтактного периода” (2001). Хотя семинары проходили под рубрикой «первобытная духовность», работа в дальнейшем велась под наименованием «коренные религиозные традиции». Теперь, когда перед нами книга Шармы, у нас есть возможность переосмыслить термин «первобытный», который, по его мнению, предпочтительнее, чем «коренной». Он указывает, что «коренной» (в смысле «происходящий с данной территории») можно было бы употреблять и в отношении синто в Японии, и в отношении индуизма в Индии. На самом деле, большинство из нас действительно считает синто коренной религией. Однако в гибридной религиозной среде современной Японии многие практикуют синто и одновременно участвуют в буддийских и христианских обрядах. Можно усомниться в том, существовали ли когда-либо «чистые» формы синто, христианства или, скажем, религии хопи. Религиозные мировоззрения и практики сообществ редко, если вообще когда-либо, развивались в полной изоляции от других. Всегда существовали внешние влияния, конкурирующие идеи и культы. С другой стороны, индуизм — который его последователи называют санатана-дхарма, санскритский термин, означающий «вечный закон» — многие из нас воспринимают как мировую религию, несмотря на то что он состоит из множества разнородных традиций, многие из которых имеют выраженную локальную направленность. Разграничение между «первобытными» или «коренными» или «локальными» религиями и так называемыми мировыми религиями является отнюдь не абсолютным. Все религии начинались как локальные. И так же как существует огромное разнообразие внутри мировых религий, столь же велико оно и среди коренных.
Постмодернистский религиозный ландшафт ещё более усложняется тем, что в результате колониализма и миссионерской деятельности многие люди, практикующие «первобытные» религии, одновременно принадлежат и к одной из мировых религий. На деле многие представители коренных народов уже во втором, третьем или четвёртом поколении являются мусульманами или христианами. Диалог между коренными религиями и мировыми религиями продолжается как в личной жизни этих людей, так и в жизни их сообществ, порой приводя к взаимному просвещению, а порой — к конфликтам и страданиям. Термины «коренные народы» и «коренные религии» появились в результате транснационального дискурса, в рамках которого представители коренных народов разных стран, осознавая своё маргинализированное и уязвимое положение в рамках национальных государств, объединились, чтобы обрести единый голос на глобальном уровне, включая структуры, такие как ООН. Этот дискурс индигенности является одновременно и политическим, и религиозным. Он объединяет народы, пострадавшие от колониализма, империализма и глобального капитализма — народы, потерявшие исконные земли, чьи религиозные практики были запрещены. Он даёт им «место за столом переговоров», как выразился Хьюстон Смит в названии одной из своих книг (Smith, 2006).
В конце 1970-х, когда я была студентом на кафедре религиоведения Университета Квинсленда, где профессорский пост занимал Шарма, термин «первобытный» использовался в отношении того, что сегодня многие называют коренными традициями. Он был введён в обиход Гарольдом Тёрнером (1911–2002), посвятившим значительную часть своей жизни изучению религиозных движений среди коренных народов. Тёрнер, новозеландец, пресвитерианский пастор и миссионер, преподавал в университетах Западной Африки, Великобритании и США. Он написал эссе «Первобытные религии и их изучение» для сборника “Австралийские эссе по мировым религиям” (1977), в котором также участвовал и Шарма. Вероятно, именно тогда я усвоила термин «первобытные религии». Когда в 1980-х годах я продолжила обучение в Чикагском университете, я по-прежнему использовала этот термин и считала его предпочтительнее «примитивного», поскольку последний несёт в себе коннотации неполноценности. «Первобытный» же означал нечто фундаментальное, основополагающее. Это была переннеалистская перспектива, утверждающая общность человеческой природы и признающая религию как универсальное измерение человеческого опыта. В Чикаго я проходила общий курс по коренным религиям под названием «Примитивная религия», который преподавал в антропологическом отделении профессор Рэймонд Фогелсон, и один из моих докторских экзаменов в 1987 году также назывался «Примитивная религия». Стоит отметить, что до недавнего времени изучение религий коренных народов в основном относили к области антропологии. Это отражает тот факт, что современное религиоведение в Европе и США началось с изучения христианства и лишь позже стало включать другие религии.
Разумеется, не все, кто использовал термин «примитивная религия», относились к коренным народам с пренебрежением. Вспомним, например, антрополога Э.Э. Эванс-Притчарда (1902–1973). Я уже упоминала, что перевод представляет собой вызов для стремящегося к инклюзивности религиоведения. Эванс-Притчард утверждал, что главной задачей антрополога является именно перевод — попытка выразить свои мысли словами и в рамках мира культуры, которую он изучает, а затем донести этот опыт до представителей своей культуры. В своей работе Theories of Primitive Religion (1965), написанной в конце карьеры, он выступал против господствующих теорий «примитивных религий». После долгих лет работы среди нуэров, азанде и других народов, он пришёл к выводу, что антропологи редко по-настоящему проникают в сознание изучаемых ими людей и приписывают им мотивации, отражающие, скорее, собственное мировоззрение. Он также утверждал, что верующие и неверующие по-разному подходят к изучению религии: первые склонны видеть в ней способ связи с высшей реальностью, тогда как вторые чаще прибегают к биологическим, социологическим и психологическим объяснениям, сводя религию к иллюзии.
Для тех из нас, кто ориентирован скорее на этнографию, чем на философию, возможно, будет уместнее говорить, например, о религии хопи или о религиях коренных американцев, используя название локальной или региональной группы. Даже здесь встают вопросы о самих названиях — откуда они и кто их определил? Иногда мы хотим рассматривать коренных американцев, африканцев и меланезийцев вместе — так же как и сами они, по политическим причинам, объединяются, чтобы представить себя не только как локальные общины, но и как часть мирового сообщества коренных народов. С точки зрения религиоведения, есть причины объединять местные религиозные традиции, если они демонстрируют общие черты — например, тесную связь с природой и использование ритуальных практик исцеления. Практикующих такие традиции объединяет также общее прошлое — разрушительное воздействие колониализма и миссионерства. Я часто использую термин «локальные религии», чтобы акцентировать внимание на связи людей с землёй и средой обитания. А «коренные» — потому, что этот термин был выбран многими из тех, к кому он применяется. Он возник из их политических усилий и используется, например, при взаимодействии коренных народов с Организацией объединённых наций и Международной организацией труда. Декларация, принятая в сентябре 2007 года, отражает определённый этап в этой борьбе и носит название Декларация ООН о правах коренных народов. Конечно, термин «коренной» тоже не лишён проблем. Можно задать вопрос: сколько поколений должно пройти, чтобы народ считался коренным? И мы знаем, что сегодня многие потомки коренных народов живут в диаспоре, сохраняя при этом глубокое чувство принадлежности к традиционному культурному и духовному сообществу.
Понимание коренного статуса, использующееся ООН и сложившееся в ходе более чем сорокалетнего участия этой организации в вопросах, касающихся коренных народов, обобщенно в рабочем определении Хосе Р. Мартинеса Кобо: «Коренные сообщества, народы и нации — это те, кто, имея историческую преемственность с доинвазионными и доколониальными обществами, сформировавшимися на их территориях, считают себя отличными от других секторов общества, ныне преобладающих на этих территориях или их частях. Они представляют собой недоминирующие части общества и стремятся сохранять, развивать и передавать будущим поколениям свои исконные территории и этническую идентичность как основу своего существования в качестве народов, в соответствии со своими культурными моделями, социальными институтами и правовой системой» (цит. по State of the World’s Indigenous People, 2009: 4).
Множество представлений о коренном статусе возникли из истории контактов и завоеваний, и наши академические дисциплины трагически переплетены с этими процессами. Сегодня мы, безусловно, избегаем колониального языка «примитивности». Вместе с Шармом мы можем находить ценность в разговоре об первобытной перспективе — взгляде на жизнь и вселенную, который составляет часть наследия общин, связанных с предками и их землями. Однако в мире, где эти сообщества всё активнее консолидируются и используют дискурс принадлежности к коренному населению для построения своей жизни в постмодернистском мире, будет уместным также говорить о коренных религиях или коренных религиозных традициях. Такой подход используют Чарльз Лонг, Джеймс Кокс, Грэм Харви и другие. Якоб Олупона зафиксировал смену терминологии в названии своего сборника 2004 года — Beyond Primitivism: Indigenous Religious Traditions and Modernity. Одновременное колебание между терминами «первобытный» и «коренной» отражает с одной стороны переннеалистское стремление видеть в религии универсальное человеческое измерение, а с другой — постмодернистское неприятие эссенциалистских подходов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
Шарма приводит примеры, показывающие, что коренные сообщества имеют переживания и идеи, которые перекликаются с вечными проблемами философии религии (и вечными проблемами человечества) — идеями о Боге, о зле, о знании и откровении, о том, как работает язык, о доказательствах истинности верований собственной культуры, о том, как справляться с конфликтующими притязаниями на истину и о человеческой судьбе. Несмотря на то, что название книги Шармы говорит о единой «первобытной перспективе», коренные народы по всему миру имеют множество — порой дополняющих друг друга, а порой противоречащих — взглядов на эти вопросы. Рассмотрим первобытные перспективы на природу и человеческую судьбу, которые могут быть полезны для современных исследований религии. Очень важная перспектива, которую предлагают коренные традиции, заключается в их связи с материальными жизненными феноменами. Я хотела бы отметить три жизненных феномена, о которых сообщают мировоззрения коренных сообществ. Я делаю это как некоренной человек, который ищет ответ от коренных коллег относительно точности этих наблюдений. Во-первых, существует забота о самой земле — о Стране, как её называют австралийские аборигены, или Матери-Земле, как её называют некоторые группы коренных американцев. Земля является основой — первобытной. Мы все нуждаемся в земле. Отношение к земле дает идентичность, а потеря земли в ходе колониального опыта является разрушительной и трагичной. Большая часть ритуалов коренных сообществ направлена на поддержание и возобновление земли, будь то проведение ритуалов в местах, где предки Древнего Времени останавливались на своих путях, или периодическое призывание духов дождя, как это делают зуни в своих церемониях. В духе «взаимного просвещения» многие люди начинают прислушиваться к мнению коренных народов о земле и, в свою очередь, обращаются к своим собственным религиозным традициям, чтобы найти мудрость, которая может помочь в решении экологического кризиса, с которым мы все сталкиваемся.
Во-вторых, коренные сообщества озабочены отношениями между жителями земли. Системы родства сильно различаются — они могут быть патрилинейными или матрилинейными, могут подразумевать системы тотемных кланов, могут накладывать ритуальные обязательства на определённых родственников, но первобытная перспектива заключается в том, что у каждого есть основная социальная группа и сеть поддержки. Малые общества делают акцент на группу; это то, что мы можем утратить в современных нациях, подчеркивающих индивидуальные права, а не жизнь сообществ. Более того, в первобытных обществах человек связан с животными и растениями, и эти отношения отмечаются в ритуалах и повествованиях. Люди могут говорить о сети жизни или о сетях обмена, поддерживающих сообщество. Перспектива принадлежности к земле и сообществу больше связана с поиском смысла, нахождением своего места или с ощущением дома на своём месте, чем с поиском истины.
В-третьих, многие ритуалы, молитвы и истории связаны с плодородием — плодородием земли и садов для тех, кто занимается сельским хозяйством, плодородием животных для тех, кто занимается охотой или скотоводством, и плодородием людей, потому что сообщество должно продолжаться. Иногда мне кажется, что стремление к хорошей и изобильной жизни, к плодородной жизни, является основой религии. Ритуальный репертуар коренных религий направлен на улучшение и восстановление жизни. Таким образом, люди проводят ритуалы во времена посева и сбора урожая. Когда кто-то болен, может быть вызван целитель, который часто сочетает практические меры с символическими процессами. Хотя ориентация на плодородие может быть более очевидной в коренных сообществах, она всё ещё присутствует и в так называемых мировых религиях, и диалог между коренными и мировыми религиями может сделать это более очевидным.
ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
Чтение и размышления над книгой профессора Шармы стали для меня как личной, так и профессиональной привилегией. Оглядываясь на развитие его выдающейся карьеры, приятно видеть, что в «Первобытной перспективе» он выступает за то, чтобы воспринимать то, что он называет первобытной перспективой, всерьез — рассматривая её как просветляющего партнёра в изучении религии. Учитывая, что данное размышление над его работой происходит в рамках Группы по коренным религиозным традициям Американской академии религии, отрадно видеть, что Американская академия религии также поддерживает программные единицы, изучающие африканские религии, корейские религии, религии коренных народов Америки, а также тибетские и гималайские религии. Более того, изучение коренных религий также ведётся и в других подразделениях — таких как Сравнительное религиоведение, Религия и политика, Антропология религии, Сравнительное богословие, Религия и экология, и Исследования ритуала.
Хотя, по-видимому, за изучением коренных традиций закреплено место в рамках Американской академии религии, мы можем задаться вопросом, в каком направлении оно будет развиваться. Будем ли мы продолжать группировать традиции так, как делаем это сейчас, или наши нынешние формулировки изменятся? Многие представители коренных народов сегодня предпочитают говорить о духовности, а не о религии, и существует напряженность вокруг присвоения коренных духовных практик не коренными людьми. Поэтому представляется своевременным исследовать понятия «религия» и «духовность», а также причины, по которым некоторые представители коренных народов могут отдавать предпочтение последнему. Признание коренных религий наравне с другими религиями мира должно помочь нам преодолеть этноцентричные установки и расистские подходы, долгое время господствовавшие как в обществе, так и в академической среде. Погружаясь в современный индигенный дискурс, мы получим возможность лучше изучить темную сторону колониальных религиозных практик. Так мы скорее всего лучше поймем религию и человечество в целом.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
Evans-Pritchard, E. E., 1965. Theories of Primitive Religion. Oxford, UK: Oxford University Press.
Friesen, Steven J., ed., 2001. Ancestors in Post-Contact Religion: Roots, Rupture, and Modernity’s Memory, Center for the Study of World Religions of the World Series. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Long, Charles, 1980. «Primitive/Civilized: The Locus of a Problem». History of Religions 29/1-2:43-61. doi:10.1086/ 462861
Sharma, Arvind, 2005. Religious Studies and Comparative Methodology: The Case for Reciprocal Illumination. Albany, NY: SUNY Press.
Sharma, Arvind, 2006. A Primal Perspective on the Philosophy of Religion. New York, NY: Springer.
Smith, Huston, 2006. A Seat at the Table: Huston Smith in Conversation with Native Americans on Religious Freedom, ed. Phil Cousineau with assistance from Gary Rhine. Berkeley, CA: University of California Press.
Turner, Harold, 1977. «Primal Religions and Their Study». In Australian Essays in World Religions, ed. Victor C. Hayes. Bedford Park, South Australia: Australian Association for the Study of Religions.
United Nations, 2009. «State of the World’s Indigenous Peoples». New York, NY: Department of Economic and Social Affairs.
ОБ АВТОРЕ
Мэри Н. Макдональд, факультет религиоведения, колледж Le Moyne, 1419 Salt Spr Road, Сиракузы, штат Нью-Йорк, 13214, США. Первая версия этого доклада была представлена на заседании Американской академии религии в Сан-Диего, Калифорния, 19 ноября 2007 г. на заседании группы по коренным религиозным традициям на тему «Коренные религии: Перспективы философии религии». Сессия была вызвана публикацией книги Шармаса A Primal Perspective on the Philosophy of Religion (New Y Springer, 2006).
1 Конгресс состоялся в сентябре 2006 года в связи с пятой годовщиной терактов 11 сентября и назывался «Религии мира после 11 сентября».