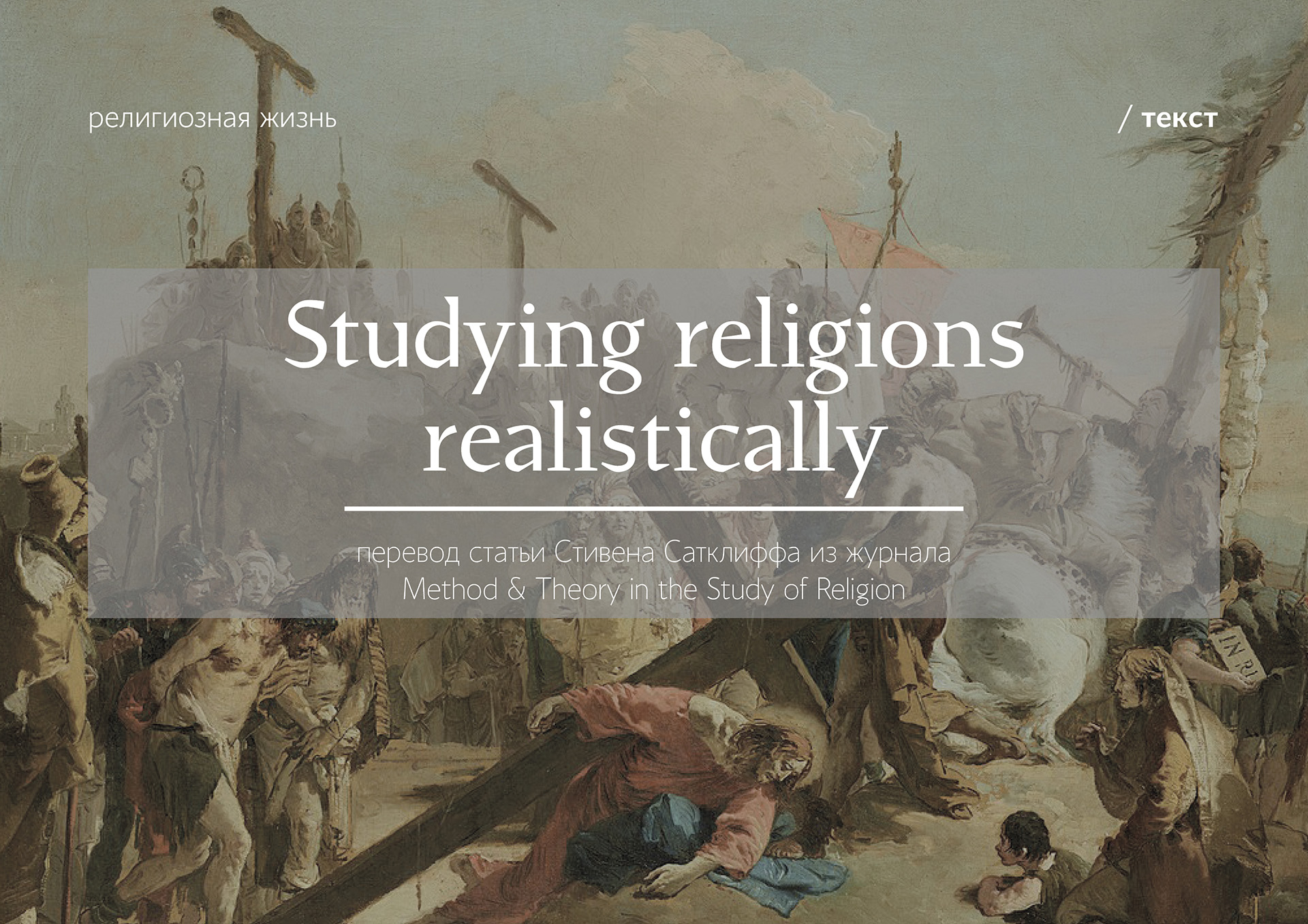1. Редукционизм: Старое доброе пугало
В основе данной статьи лежит вечный вопрос в религиоведении, а именно: решен ли методологический вопрос? Более конкретно: могут ли сосуществовать методологическая случайность с одной стороны, и сравнительное и систематическое исследование с другой?
Общая позиция, которую я изложу здесь, методологически редукционистская — и это неизбежно, поскольку именно это я имею в виду под выражением «реалистичное изучение». То есть нельзя отождествлять занятия или практику «религии» или «религий» с их изучением, которое неизбежно редуцирует первое в соответствии с собственными терминами и категориями.
Если методология сейчас может быть непопулярной темой в британском религиоведении1, то редукционизм — и вовсе пугало, употребление которого вызывает образы ученого-автомата, разрушающего целостное единство религиозных культур. Однако я квалифицирую редукционизм как «методологический», чтобы подчеркнуть, что здесь речь идет не о статусе экзистенциальных или теологических вопросов, возникающих внутри религиозной традиции, а просто о методе подхода. Академическая деятельность в области гуманитарных и социальных наук — это всегда процесс второго порядка, зависящий от первичных феноменов. Роберт Бэрд (1971: 42) возражает холистической позиции: «Можно согласиться с тем, что в историческом исследовании религий работает «целостный ученый». Но это вовсе не означает, что он всегда должен задаваться нормативным вопросом… «Целостный человек» может задавать вопросы и предлагать ответы на разных уровнях».
Иными словами, ученому не обязательно исчерпывать все свои ресурсы в тех вопросах, которые он задает2, потому что речь идет не об истине как таковой, а о более скромной цели — о знании.
Если то, что я изложил до сих пор, напоминает концепцию методологического атеизма Питера Бергера (Berger 1969: 100, Appendix II) или методологического агностицизма Малкольма Хамильтона (Hamilton 1995: 5), не говоря уже о феноменологическом epoché, то реалистическая позиция, которую я хочу продвинуть, отличается тем, что она решительно отказывается от любой теологической повестки или ссылок на нее. Она отрицает, что после академического анализа остается некий «остаток» смысла или веры, подлежащий дальнейшему учету. Напротив, некоторые варианты «заключения в скобки» имплицитно легитимизируют или, по крайней мере, не всегда явно исключают теологическую повестку, поскольку, как представляется, допускают, что, даже если ученому удается удержать ее в узде при первоначальном изложении, вопрос об ультимативности зачастую просто проскальзывает с черного хода. На самом деле неясно, сколь многие религиозные практики действительно связаны с теологическими дебатами конкретной традиции, а не просто участвуют в них с большей или меньшей степенью приверженности и в соответствии с гораздо более прагматичными социокультурными и поведенческими нормами. Реалистичный подход не отрицает возможности теологического или экзистенциального решения со стороны заинтересованных лиц, но не предполагает этого априорно. Более того, он настаивает на следующем: какова бы ни была эмическая позиция, теологические или философские вопросы не являются единственными объектами интереса для этического исследования (см. ниже о категориях эмического и этического). Иначе говоря, теологическая истина — это лишь факультативный пункт в программе религиоведения. Считать ее «вопросом первостепенной важности» — значит «попасть в ловушку истины» (Strenski, 1994).
Таким образом, мы можем сказать, что редукционистский подход реалистично признает себя методологической позицией. Реализм в этом контексте означает рефлексивное признание номинального или функционального статуса: это именно метод, а не экзистенциальный проект, не акт веры и не руководство по образу жизни. Как метод, он подобен набору инструментов, ценность которых определяется их применением: инструменты нужны для того, чтобы с чем-то работать, что-то модифицировать, что-то представлять.
Инструменты сами по себе бесполезны, если их не применять. Их ценность заключаетися в пригодности для выполнения конкретной задачи. Хорошие инструменты оцениваются по результатам работы: процедурной состоятельности, общей «отделке» и историческим сроком годности.
Кроме того, редукционизм неизбежен в любом исследовании второго порядка — объяснительном или интерпретативном — просто потому, что оно не может воспроизвести свой объект полностью и не может достичь эпистемологического совершенства или окончательности, даже если бы и стремилось к этому. Это особенно важно в академическом религиоведении, учитывая известную теологическую подоплеку его исторического развития и постоянную необходимость создания ненормативных описаний религиозной деятельности. Эти описания, в свою очередь, будут реалистично подвержены коррозии и двусмысленности, но также и возможностям пересмотра и переформулирования, присущим истории. Иными словами, любая ненормативная аналитика будет неизбежно редукционистской, поскольку она объясняет явления в терминах, отличных от тех, в которые оно уже погружено. Полученные объяснения или описания действительно редуцируют феномены, поскольку переводят их в понятия, более подходящие для этической повестки — а именно, для сравнительного научного подхода. Отсюда следует, что сравнение содержательной ценности (т.е. герменевтическое) соответствующих репрезентаций — эмических и этических3 — не является ни проблемой, ни проектом: реалистичное религиоведение не интересуется тем, какая из эпистемологических систем ближе к тому, какой религия является на самом деле, а согласованностью, последовательностью и последующей этической полезностью репрезентаций,которые оно стремится построить, а также тем, насколько успешно они могут быть проверены на местном, региональном, национальном и международном уровнях.
Таким образом, академическое изучение религии в рамках реалистичной повестки является одновременно рефлексивным и скромным. Оно не путает картографию с географией, но продвигает создание карт как общественно доступное занятие: карта представляет собой путеводитель по территории, которая может быть недоступна или закрыта. Разумеется, при этом территория сокращается — сжимается, дифференцируется и редактируется в соответствии с кодом картографа, — но карта, хотя бы минимально не соответствующая картографической реальности самой местности была бы абсурдным проектом.
И если картография и география, будучи взаимосвязанными, четко и неопровержимо различаются, то так же должны различаться и изучение религии и ее практика. Это принципиальное различие, выраженное через редукционистскую — то есть реформаторскую или трансляционную — методологию, и составляет основу реалистичной практики религиоведения.
2. Реалистичный метод: Некоторые факторы
Согласно Уильямсу (Williams 1976: 220), примерно с середины XIX века «историческое значение реализма заключалось в том, чтобы сделать социальную и физическую реальности (в общем материалистическом смысле) основой литературы, искусства и мышления». Реалистичное представление — в смысле правдоподобности, трехмерности, материальной убедительности — предполагает такой тип методологической практики или операционного стиля, который характеризуется практичностью и когнитивной доступностью. Однако далее Уильямс начинает проблематизировать риторическое употребление термина «реалистичный», справедливо улавливая в нем определенные нюансы «неявного нетерпения»: «”Давайте будем реалистами” чаще означает “давайте примем границы данной ситуации” (под “границами” обычно подразумеваются жесткие факты, часто связанные с властью или деньгами в их существующих и закрепившихся формах), чем “давайте посмотрим на всю правду ситуации” (что может допускать, что существующая реальность изменяема или подвергается пересмотру)».
Тот тип реализма, который я имею в виду, включает в себя элементы обеих крайностей — так называемых жестких фактов и всей правды, поскольку обе опираются на представление об операционных ограничениях, предполагая недоступность любой тоталистской, совершенной репрезентации с какой бы то ни было позиции. Я утверждаю, что это, на самом деле, положительная сторона реалистичной повестки, так как она позволяет ее представлениям быть одновременно значимыми, но условными, достаточными, но не исчерпывающими, объясняющими и в то же время открытыми для пересмотра.
В отличие от идеалистических и эпифеноменалистских интерпретаций религии, реалистичное исследование прямо признает природу взаимоотношений между религиозным актором/сообществом и исследователем/академией. Это диадические отношения, которые, как правило (хотя и не обязательно), выражаются в виде напряженности, если не прямого разрыва, между эмическими и этическими категориями. Однако если идеалистические и эпифеноменалистские подходы, хоть и совершенно по-разному, стремятся устранить это напряжение, тем самым размывая или даже устраняя различие, то реалистичное исследование, напротив, стремится работать с этим чувством различия или разрыва между эмикой и этикой как с богатым и ценным источником знания. Как лаконично выразился Йингер (Yinger 1970: 22): «Мы должны быть внимательны к различию между тем, что религия могла бы делать, если смотреть на нее идеалистически или культурно, и тем, что религиозные системы, встроенные в общества и индивидов, действительно делают».
Это, конечно же, и есть одно из различий между нормативной идеологией и реальностью. Следовательно, реалистичное исследование подразумевает приверженность рациональному публичному дискурсу в соответствующих этических терминах и категориях, который, что очень важно, функционирует как внутри академии, так и за ее пределами. Оно находится на широкой «срединной» позиции, открытой для любых объяснительных гипотез, серьезно относящихся к эмпирическим и поведенческим измерениям как к причинным факторам в любой конкретной ситуации. Однако, чтобы это не звучало как безоговорочный позитивизм (еще одно пугало, как мне кажется), такой подход имеет потенциал для развития рефлексивного реализма, который своевременно и прозрачно указывает на границы собственной компетенции.
3. Этнографические вопросы
Полная эмпирическая реальность религиозности и религий требует включения множества измерений, помимо сугубо текстуального, в любой конкретной ситуации. Поскольку «если мы не сверяем наши анализы с тем, что действительно происходит в реальности, мы рискуем увековечить ложные предположения и вопиющие неточности» (Bowman, 1992: 1) — что, по сути, является переформулировкой различия, о котором говорил Йингер (Yinger): разницей между возможным и действительным. Этнография в самом широком смысле — то есть основанные на полевых исследованиях описания того, «что люди реально делают, говорят, думают, во что верят во имя религии» (Bowman, 1992: 1–2), — таким образом, является неотъемлемой частью реалистичного подхода.
Однако, если, как я утверждаю, реалистичное исследование по своей сути методологически редукционистское, тогда возникает вполне реальный риск отчуждения практикующих (религиозных людей), с которыми мы, как этнографы, часто имели значительный контакт — в качестве коллег, информантов, интервьюируемых и даже друзей. Хотя эта дилемма, несомненно, не обязательно представляет собой методологическую проблему (ведь ее основой является номинальная и когнитивная эпистемология, а не онтология или теология), тем не менее, те из нас, кто проводил полевые исследования — или работал в полиметодологических департаментах религиоведения — знают, на каких межличностных «канатах» иногда приходится балансировать: человеческие отношения во всех их формах — это не что иное, как реальные дела. В ходе недавних полевых исследований4 мне временами было чрезвычайно трудно выдерживать эпистемологические и поведенческие разрывы между эмическим и этическим подходами: соблазн почти всегда заключается в том, чтобы либо подавить эти различия, либо быстро их сгладить — просто чтобы чувствовать себя комфортно среди практиков. Как пишут Хаммерсли и Аткинсон (Hammersley & Atkinson, 1983: 102): «Комфортное ощущение “как дома” — это сигнал тревоги. С позиции “маргинального” рефлексивного этнографа не может быть и речи о полной самоотдаче, “погружении” или “становлении”. Всегда должна сохраняться некоторая часть, которую исследователь удерживает при себе — определенная социальная и интеллектуальная дистанция. Именно в этом “пространстве”, создаваемом дистанцией, и происходит аналитическая работа».
Тем не менее, будет реалистично — опять это слово — признать, что мы, в конце концов, всего лишь люди, какими бы изощренными ни были наши эпистемологии. Таким образом, существует предел того, сколько подобной полевой работы мы в состоянии вынести.
4. Эмические и этические категории: противоречивые описания
Все вышесказанное неизбежно поднимает множество вопросов, касающихся диалектики между эмическими и этическими описаниями — диалектики, которая одновременно функционально полезна и, как я полагаю, по своей сути неразрешима (см. также Bell [1996]). Эмическое описание и анализ формируют мировоззрение в соответствии с эпистемологией коренных народов, то есть связанное с едиными нормами и ценностями данной культуры или традиции. В отличие от этого, этический метод соответствует сравнительным аналитическим категориям, которые были и остаются предметом обсуждений и проверок внутри не ограниченной одной точкой зрения научной среды, и которые были убедительно показаны как нечто большее, чем просто эмические категории конкретной культуры в целом (Lett 1990: 134–135); то есть эти категории действительно работают кросс-культурно. Разумеется, этический анализ может проводиться только при наличии адекватных описательных данных — то есть материалов, соответствующих эмическим категориям. Таким образом, в реалистичном исследовании того типа, который я имею в виду, эмические и этические подходы функционально неразделимы.
Конечно, сам акт сравнения и подведения под внешние этические критерии вполне может угрожать участникам (т. е. представителям исследуемых культур), поскольку их (эмические) категории тем самым оказываются не окончательными. Признание неизбежности определенного уровня конкуренции или конфликта между эмическими и этическими объяснениями, таким образом, является реалистичным ответом на неразрешимую ситуацию.
Один простой пример укоренившегося тупика между этическим и эмическим анализом — это противостояние сторонников секуляризации и ресакрализации. Известный аргумент, например, связанный с Брайаном Уилсоном, согласно которому послевоенное распространение новых религий и «духовности» в целом — это всего лишь еще один симптом неумолимого процесса секуляризации5, воспринимается моими информантами из среды Нью-Эйдж с недоумением, если не с возмущением (разумеется, этот аргумент теперь также подвергается критике с этической точки зрения). Они, естественно, воспринимают себя как авангард, по выражению одного современного активиста, «массового движения, в котором человечество вновь утверждает свое право на свободное исследование духовности» (Bloom, 1991: xvi). Движение Нью-Эйдж представляет собой «возрождение сакрального» (Spangler, 1984), «переосмысление мира» (Spangler & Thompson, 1991). Можно ли ожидать от религиозных акторов другого? Но реалистичный редукционизм едва ли может быть основой вероучения или религии — и не должен претендовать на это. «Эмический» и «этический» — это когнитивные категории, а не воплощенные позиции. Конечно, как эпистемологические позиции, они поддерживаются реальными людьми, но это уже другая плоскость.
5. Подводя итоги
Я подчеркивал, что религиоведческие исследования являются исследованиями второго порядка. Мы не занимаемся религиозной практикой в процессе анализа — мы ее изучаем; мы не проживаем ее, мы ее записываем. В этом контексте стоит упомянуть замечание Элизабет Ишичей (Isichei, 1993: 388): «Мы придумываем религиозные культуры, а не описываем их. Мы пишем вымысел — надеюсь, правдивый вымысел». То, что Ишичей называет «правдивым», я предпочел бы называть реалистичным. В любом случае, исследование должно начинаться с рефлексии — с признания условного и операционального характера наших научных стратегий, а не их абсолютной или сущностной природы. Я утверждаю, что такая позиция представляет собой рефлексивный и ревизионистский модернизм, способный поддерживать реалистичную научную программу, которая признает плюрализм, сложность и крайнюю неоднородность современных религиозных голосов, одновременно следуя собственной этической — то есть синхронно и диахронно сравнительной — повестке. Именно эта этическая повестка и составляет ту самую разницу — разницу между реалистичным изучением религий и их теологическим осмыслением6.
Факультет религиоведения
Открытый университет
References
Baird, Robert D. (1971). Category Formation and the History of Religions. The Hague: Mouton.
Bell, Catherine (1996). Modernism and postmodernism in the study of religion. Religious Studies Review 22/3: 179-190.
Berger, Peter L. (1969). The Social Reality of Religion. London. London: Faber & Faber.
Bloom, William, ed. (1991). The New Age. London: Rider/Channel 4.
Bowman, Marion (1992). Phenomenology, fieldwork and folk religion. British Association for the Study of Religion Occasional Paper 6. Open University in Wales.
Hamilton, Malcolm B. (1995). The Sociology of Religion: Theoretical & Comparative Perspectives. London: Routledge.
Hammersley, Martyn and Atkinson P. (1983). Ethnography: Principles in Practice. London: Tavistock/Routledge.
Harris, Marvin (1990). Emics and etics revisited. In Thomas N. Headland et al. (eds.), Emies and Elics: The Insider/ Outsider Debate, 48-61. Newbury Park, CA: Sage.
Headland, Thomas N. (1990). Introduction: A dialogue between Kenneth Pike and Marvin Harris on emics and etics. In Thomas N. Headland et al. (eds.), Emis and Etics: The Insider/ Outsider Debate, 13-27. Newbury Park, CA: Sage.
Headland, Thomas N. et al. (eds.). (1990). Emics and Etics: The Insider/ Outsider Debate. Newbury Park, CA: Sage.
Isichei, Elizabeth (1993), Discussion: Some ambiguities in the academic study of religion. Religion 23: 379-390.
Lett, James (1990), Emics and etics: Notes on the epistemology of anthropology. In Thomas N. Headland et al. (eds.), Emics and Elics: The Insider/ Outsider Debate, 127-142. Newbury Park, CA: Sage.
Pike, Kenneth L. (1990), On the emics and etics of Pike and Harris. In Thomas N. Headland el al. (eds.), Emics and Etics: The Insider/ Outsider Debate, 28-47. Newbury Park, CA: Sage.
Spangler, David (1984). Emergence: the Rebirth of the Sacred. New York: Dell.
Spangler, David and Thompson W. (1991). Reimagination of the World: A Critique of the New Age, Science and Popular Culture. NM: Bear & Co.
Strenski, Ivan (1994). Reduction without tears. In Thomas Idinopulos and Edward Yonan (eds.), Religion and Reductionism: Essays on Eliade, Segal, and the Challenge of the Social Sciences for the Study of Religion, 95-107. Leiden: Brill.
Wallis, Roy and Bruce S. (1992). Secularization: The orthodox model. In Steve Bruce (ed.), Religion and Modernization: Sociologists and Historians debate the Secularization Thesis, 8-30. Oxford: Clarendon Press.
Wiebe, Donald (1984). The failure of nerve in the academic study of religion. Studies in Religion/Sciences Religieuses 13/4: 401-422
— (1985). A positive episteme for the study of religions. Scottish Journal of Religious Studies 6/2: 78-95.
Williams, Raymond (1976). Keywords: 4 Vocabulary of Culture and Society. Glasgow: Fontana.
Yinger, J. Milton. (1970). The Scientific Study of Religion. London & New York: Macmillan.
Sutcliffe S. Studying Religions Realistically //Method & theory in the study of religion. – 1998. – Т. 10. – №. 3. – С. 266-274.
1 В качестве анекдотического примера, связанного с двумя британскими университетскими библиотеками, удовлетворяющими потребности факультетов религиоведения, я недавно взял книгу Yinger (1970) из Открытого университета — она впервые вышла в свет за 14 лет — и книгу Baird (1971) из Университета Стирлинга — она вышла в свет впервые (и только) за 23 года.
2 Заманчиво написать «в отличие от практикующего», хотя это было бы гипотезой, которую нужно исследовать в конкретных случаях, а не предполагать в качестве характерной черты «религии».
3 Эти термины являются сокращениями фонемного и фонетического и впервые были экстраполированы лингвистом Кеннетом Пайком в начале 1950-х годов (Pike 1990: 30-31). Впоследствии эти термины были присвоены и переосмыслены антропологом Марвином Харрисом в 1960-х годах (Harris 1990: 48-50), после чего они заняли видное место в социальных науках в целом, и особенно в антропологии и психологии (Headland 1990: 19). Для наших целей удобное определение предлагает Летт (Lett 1990: 130-131): «Эмические конструкты — это изложения, описания и анализ, выраженные в терминах концептуальных схем и категорий, считающихся значимыми и подходящими для представителей культуры, чьи верования и поведение изучаются….. Этические конструкты — это рассказы, описания и анализ, выраженные в терминах концептуальных схем и категорий, считающихся значимыми и подходящими для сообщества научных наблюдателей».
4 Использование «открытой» модели наблюдения за участниками в этнографической и исторической докторской диссертации, посвященной религиозности Нью-эйдж в Великобритании.
5 Удобное изложение аргументов приведено в книге Wallis and Bruce (1992).
6 Исикей (Isichei 1993: 384), например, посвящает целый раздел в своем обсуждении методологических неясностей «уравнению религиоведения с “либеральной теологией”». Вибе (Wiebe, 1984, 1985) остается примером, который бросает вызов подобной путанице/размышлениям.