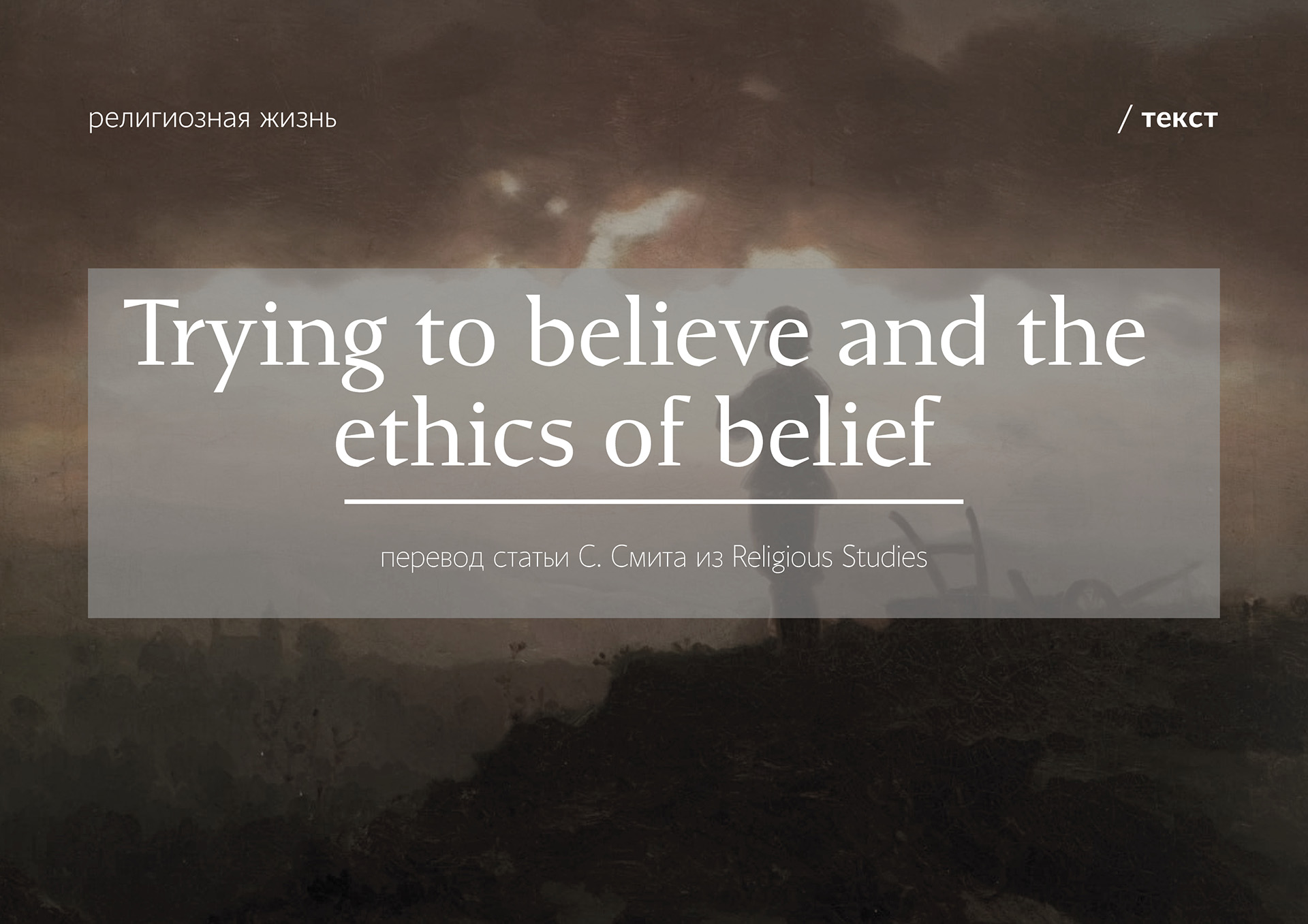Проблема, которую я хочу обсудить, касается различия между верой и восприятием, воображением, утверждением, решением, надеждой, а также знанием. Поскольку эти различия не всегда учитываются, нам нужно напомнить себе, что означает «вера», когда она сознательно предпочитается другим целенаправленным описаниям. И мы должны охарактеризовать ее таким образом, чтобы понять, почему это имеет значение, именно сейчас, а не путем логического вывода в конце, верит ли человек во что-то или нет. Я предлагаю сформулировать это следующим образом: вера в X (где X — это то, о чем идет речь в утверждении веры) означает принятие X как реального, что, в свою очередь, означает принятие X как того, с чем можно иметь дело. (Дополнительное значение слова «реальный», исключающее зоны субъективных фантазий, заключается в том, что любое реальное X рассматривается не изолированно, а в связи с другими вещами, с которыми приходится иметь дело. «Реальное» означает «мир».) В отличие от знания, которое изначально воспринимается, так сказать, от объекта к субъекту — если X существует, и я прихожу и вижу его там, то я среди тех, кто знает, что он там есть — вера воспринимается от субъекта к объекту: если я оглядываюсь вокруг, и я вижу X, то X — это то, во что я верю, если только я не сомневаюсь в этом по какой-либо причине.
Вера представляет собой сложную головоломку. Поскольку вера является отношением к чему-то, что считается реальным, человек (испытывая веру) должен полагать, что она главным образом зависит от реальной вещи, ее существования и природыа не от него самого. Это значит, что важнейшее условие формирования веры является непроизвольным, лежащим вне нашего контроля. С другой стороны, люди могут отказываться верить или, в некоторых интересных случаях, стараться верить — прилагая усилия, чтобы поверить, в тех случаях, когда, по их мнению, они должны верить. Некоторые люди могут призывать других верить, например, в определенные религиозные положения. Из всего этого следует, что важнейшим условием веры является произвольность. Но как вера может быть одновременно произвольной и непроизвольной[2]? Самый простой ответ заключается в том, что произвольные и непроизвольные условия веры являются необходимыми, но недостаточными. К доказательству должно прилагаться его подтверждение; к подтверждению должно прилагаться доказательство. Все это так, но есть любопытные ситуации, когда непроизвольное условие не выполняется, или, во всяком случае, еще не выполняется — когда люди стараются поверить при отсутствии убедительных для утверждения доказательств.
То, что существует нечто вроде стремления поверить, не означает, что непроизвольное условие веры не является необходимым. Это лишь означает, что стремление к вере не равно самой вере. Но стремление верить часто ассоциируется с определенными видами веры, такими, которые, возможно, должны быть достигнуты и которые регулируются отдельной отраслью этики веры. Размышляя о том, как люди сталкиваются с трудностями в вере, давайте попробуем понять, почему это так,.
…
Нравственные богословы-кантианцы сталкиваются с проблемой веры, характерной для многих популярных форм теизма, хотя их случай особенно сложен. Они полагают, что наше рациональное нравственное чувство говорит нам, что люди заслуживают быть счастливыми пропорционально своей моральной добродетели, и, следовательно, утверждают, что наши моральные соображения требуют, чтобы добродетель в итоге была вознаграждена счастьем — которое могло бы быть достигнуто только через Бога и только в невидимом мире[3]. Их жизнь как моральных агентов стала бы для них непонимаемой, если бы они не могли постулировать этот контекст для нее — это было бы так же нелепо, как, например, гоняться за теннисными мячами и бить их, не имея возможности видеть разметку корта. Поэтому им необходимо верить в это положение вещей, относиться к нему как к реальному, а не воображаемому. Однако, несмотря на то, что эта вера навязывается им рассудком, они все равно испытывают трудности с тем, чтобы действительно испытывать ее, потому что кантианский рай не является, в конце концов, очевидным том смысле, в каком обычно утверждают себя вещи, с которыми приходится иметь дело; он не является очевидным ни телесно (из-за ограничений восприятия), ни логико-математически (из-за ограничение формальной интуиции). Хотя Кант пытается доказать, что добродетель будет вознаграждена, счастье не стоит перед мысленным взором в связи с добродетелью так, как, например, «4» стоит в связи с «2 + 2». Единение добродетели и счастья — это искусственное субъективное желание, одновременно рациональное и естественное, несовместимое с естественными условиями, но все же мыслимое возможным при иных, не-естественных условиях. Такое единение “мыслится” как необходимый итог определенных усилий, а не как реальная вещь, событие или закономерный процесс [4]. Неудивительно, что кантианцам трудно в него поверить.
Этих кантианцев, обеспокоенных невидимостью их промыслительного рая, можно уподобить теннисистам, растерянным из-за того, что они не видят своего корта (скрытого, скажем, постоянным туманом по колено). Они начинают чувствовать себя скорее потенциальными игроками в теннис, чем теннисистами в полном смысле этого слова, и, конечно, они испытывают разочарование, ведь настоящая игра в теннис гораздо интереснее и значимее, чем простая практика. Игрок 1 предлагает аргумент, чтобы подбодрить их: «Послушайте, регулярность наших ударов подразумевает, что корт функционирует, даже если мы его не видим. Сам факт того, что мы действуем так, словно корт существует, гарантирует его существование в том смысле, что это имеет значение. Мы постигаем его реальность через наши действия».
Игрок 2 отвечает: «Вы хотите сказать, что нет никакой существенной разницы между тем, чтобы притворяться, что играешь в теннис, просто выполняя все соответствующие движения, и тем, чтобы действительно играть в теннис. С вашей точки зрения, в итоге не имеет значения, есть ли под этим туманом корт. Но для меня это имеет значение. Чтобы поверить, что я сделал подачу на вылет, я должен поверить, что мяч ударился о землю в определенной зоне, прежде чем пролететь мимо вашей ракетки. Мы будем действовать так, словно это произошло, но только потому, что это “как будто” связывает наши действия с предполагаемой реальностью, мы можем считать наши действия теннисом. Однако вопрос в том, есть ли у этого предположения реальные основания; “как будто” не может само по себе создать реальность».
Что важно как для теннисистов, так и для кантианских моральных субъектов, так это серьезность их деятельности. И дело не только в том, что они хотят чувствовать себя серьезными; в любом подлинном действии (в отличие от притворства) человек обращается к тому, что он понимает как реальное окружение, и действует таким образом, чтобы взаимодействовать с тем, что (релевантно) действительно существует. Потребность в вере — это необходимость, сопутствующая серьезному действию, заключающаяся в том, чтобы постигать и принимать истину (например, существование и конкретные характеристики какого-то объекта или положения дел) реально, а не просто условно. Подлинное постижение и принятие истины подразумевают переживание подчинения требованиям реальности — независимо от того, происходит ли это или не происходит в результате непосредственного воздействия на способность разума к представлению, как в случае с «впечатлениями»; есть различие между простой готовностью «согласиться» с утверждением и поведением, соответствующим представлению о том, что нечто действительно имеет место [5]. Игрок 1 пытается вывести подлинное согласие с существованием теннисного корта из реальности их игры; игрок 2 видит в этом искажение принципа реальности тенниса. Теннис следует понимать не только как противостояние игроков в определенных формальных рамках, но и как их взаимодействие с конкретным материальным театром действия — теннисным кортом. Игрок 2 нуждается в основаниях для утверждения существования корта, которые исходят из самой его реальности. Туман ставит игрока в трудное положение. Для кантианцев это положение фактически безнадежно, поскольку их эпистемология исключает саму возможность восприятия кантианского рая или чего-либо еще, кроме природных явлений.
Примечательно, что сам Кант обошел эту проблему в своей формулировке концепции веры. Хотя он справедливо различал объективно достаточные основания «знания» и объективно-недостаточные, но субъективно-достаточные основания «веры», он затем полностью отверг объективные основания веры, приравняв веру к субъективной необходимости[6]. Поскольку природа субъекта является побуждающим к мысли фактором, отличным от восприятия, само восприятие больше не является необходимым для веры. Теннисисты могут продолжать играть в теннис, руководствуясь собственными необходимыми намерениями, и перестать пытаться разглядеть корт сквозь туман. Кант бы поддержал Игрока 1, но уточнил бы его позицию следующим образом: «Вы не совсем воспринимаете реальность теннисного корта через свои действия; вы лишь постулируете его существование. Но поскольку этот постулат обусловлен самой природой вашего намерения играть в теннис, которая для вас является неизбежной, вы не просто воображаете или притворяетесь».
Сочувствуя Игроку 2, я бы ответил, что, хотя подобного рода постулирование может быть вполне оправданным и даже может полностью соответствовать одному из значений, приписываемых слову «вера», оно не соответствует обычному значению «убеждения». Сведение убеждения к вере за счет отказа признать элемент восприятия в убеждении — это просто концептуальная ошибка. (Есть ли здесь какой-то эпистемологический дурной юмор — то есть безразличие к тому, что кто-то может обладать восприятием, если оно не может быть гарантировано для всех?) В любом случае, если кантовское предложение — наилучшее из имеющихся, то следует признать, что игроки не столько верят, сколько постулируют, и что им придется принять ощущение нереальности, сопровождающее такое неполноценное постулирование. Их будет продолжать беспокоить несоответствие между их действием и очевидным театром, в которой оно совершается, ведь их потребность в вере не исчезнет.
Из-за того, что поставлено на карту для людей, которым необходимо верить, они не будут равнодушны к тем видам опыта, которые формируют правильную основу для веры; скорее, они будут активно культивировать такой опыт. Эта попытка поверить — странный проект, поскольку он включает в себя формирование опыта, который должен определяться объектом, чтобы поддерживать реальное постижение и утверждение. Но как возможно, чтобы субъект и объект одновременно обладали определяющей ролью?
Очевидно, что субъект, которому необходимо во что-то поверить, должен искать убедительные доказательства: быть на месте, когда туман рассеется, чтобы увидеть обычно скрытый теннисный корт; нанять детектива, чтобы следить за любимым человеком, верность которого под вопросом; читать пока еще только потенциально священную книгу в ожидании подтверждения Святым Духом ее святости и т. д. Но хотя сбор доказательств является способом достижения веры и, вероятно, признаком желания верить, это не одно и то же, что и попытка верить, которая подразумевает рассмотрение уже имеющихся доказательств как факторов, заставляющих субъекта поверить в реальность объекта. Посмотрите на то, что может быть совой, сидящей на высокой ветке дерева; попытайтесь поверить, что это действительно сова — не произвольно, а потому, что это должна быть сова (ничто другое не выглядело бы так). Рассматривайте доказательства как свидетельства наличия совы, потому что, как вам станет очевидно, сам факт ее присутствия должен заставить доказательства принять этот облик…
Один из способов удовлетворить это требование непринужденности веры — интерпретировать сам процесс восприятия субъектом доказательств как часть его подчинения реальному положению дел. Например, если кто-то читает книгу как Слово Божье (то есть как средство подлинного восприятия Бога), то само это чтение, которое, казалось бы, является инициативой субъекта, приписывается более фундаментальной инициативе Бога. Слово Божье говорит только о вере слушателя, которая, в свою очередь, понимается как дар Бога. (Не то чтобы каждый объект действовал так же, как этот необычный «объект», но любой объект, так или иначе, влияет на субъекта, который его воспринимает.) Таким образом, попытка поверить, которая привела к вере, может быть впоследствии истолкована как само по себе соответствующее доказательство веры. Исполнясь надежды, можно даже заранее интерпретировать ее таким образом («Почему бы мне пытаться поверить в X, если бы X не оказывал на меня никакого влияния?»); но пока человек все еще только пытается верить, а не верит по-настоящему, выбор между X и не-X остается открытым, а оправдывающее ограничение еще не достигнуто.
Существует и другой, несколько отличный способ, с помощью которого рассмотрение доказательств как свидетельства определенной реальности воспринимается как обусловленное реальностью и, следовательно, подлинное. Рассмотрим такой пример. Вера в то, что Солнце находится на расстоянии примерно 93 000 000 миль, дается нелегко, ведь ничто не кажется нам настолько далеким. Конечно, когда я впервые узнал этот факт, мне не пришлось прилагать больших усилий, чтобы в него поверить; он, вероятно, показался мне столь же разумным, как и все другие астрономические цифры, которые я узнал в то же время. Но это было лишь условное согласие. Если же я в какой-то момент попробую представить себе удаленность Солнца и если я отделю вопрос реального расстояния от трудности осознания огромных масштабов как таковых, от слабости моего математического воображения — мне будет трудно поверить, что объект, столь интенсивно присутствующий для меня в своей визуальной яркости и тепле, может быть удален настолько миль. Чтобы поверить в это, я должен воспринять Солнце через научные данные о нем, которым я доверяю по сложным причинам, не имеющим прямой связи к его присутствию в моих чувствах. Это восприятие включает в себя размещение Солнца в целой системе мира, которая выстраивается в моем сознании на основе различных сообщений и подвергается множеству частичных подтверждений. Благодаря моему пониманию я могу «увидеть» Солнце как находящееся на расстоянии 93 000 000 миль, хотя для этого мне требуется напрячь воображение. Мне также приходится одновременно верить в его огромные размеры и температуру.
Обычная этика веры требует от меня усилия, чтобы поверить в удаленность Солнца. Фундаментальная причина этого заключается в том, что имеющиеся свидетельства реальности взаимосвязаны таким образом, что, отвергая одно из них, нам пришлось бы отвергнуть множество других. Авторитет, которым обладает «наука» в нашей этике веры, основывается именно на ее способности поддерживать и расширять эту систему представлений. Именно вся эта система, давящая на меня, создает оправдывающее ограничение. Когда я смотрю на Солнце как на нечто чрезвычайно далекое от меня, я подчиняюсь этой системе.
Когда мы сравниваем случай, в котором объект убеждения недоступен для восприятия (например, кантовский рай), с тем, когда объект поддается восприятию (например, солнце), мы увидим типичное различие между двумя классами убеждений: с одной стороны — религиозными, метафизическими и моральными, а с другой — научными и повседневными фактическими убеждениями. Назовем эти классы ненаблюдательными и наблюдательными. (Я не считаю «моральными» регулирующие поведение взгляды, которые основаны исключительно на наблюдении за поступками людей.) Разумеется, наука также имеет дело с ненаблюдаемыми сущностями. Отсутствие возможности наблюдать X (например, кварк) не является критичным, если можно рассматривать определенные явления как следы X. Тем не менее, в таких случаях самая строгая научная этика убеждения просит нас сохранять осторожность, скорее верить, чем по-настоящему убеждаться, именно из-за отсутствия надежного постижения. Доступность для восприятия остается стандартом: возможно, когда-нибудь у нас могут появиться более веские основания полагать, что мы имеем дело не с кварками, а с «зарками».
Каждому из классов убеждений можно приписать максиму, которая будет одновременно и описательной, и нормативной. Наблюдательные убеждения в конечном счете основываются на принципе «видеть — значит верить» (при всем том, что восприятие обусловлено концептуальными и эстетическими предрасположенностями). С другой стороны, свидетельства ненаблюдательных верующих позволяют предположить, что принцип религиозных, метафизических и моральных убеждений — «верить — значит видеть» (при всем том, что вера ограничена формой и фактическим содержанием чувственного восприятия). Если это разделение реально, то «попытка поверить» должна иметь совершенно разные значения в этих двух классах убеждений. В первом случае человек стремится к вере (признанию реальности, подчинению себя ей), осуществляя восприятие, например, видя солнце как очень большое, горячее и далекое. Во втором случае человек стремится к ощущению реальности чего-либо, предварительно подчиняя себя ему, или находит эту самую реальность в самом подчинении.
Это различие имеет важное значение для этики веры. Для науки, как и для повседневного фактического осознания, способность субъекта к признанию реальности имеет большее значение, чем само восприятие. Восприятие относительно самодостаточно или может быть упорядочено с помощью правильного обучения, но то, что субъект готов сделать с этим восприятием, изменчиво и нуждается в дисциплине. (Дисциплинированное отношение к восприятию может потребовать от нас отвергнуть определенные «легковерные» восприятия, например, встречи с призраками.) В религии и морали, однако, основная забота связана с осознанием субъекта, с реальностью против умозрительности восприятия и согласия, в то время как в метафизике главный вопрос — качество понимания. В этом контексте легковерие может быть реальной проблемой, но только второстепенной. В области благочестия, например, поддерживать все правильные установки относительно легко и относительно несущественно, в то время как переживать как реальность основу благочестивых установок, таких как, например, святость Бога или собственная греховность, сложнее и важнее.
В любом случае этика веры касается того, какими людьми мы являемся — доверчивыми или скептически настроенными, гордыми или смиренными. Так или иначе, этика веры укореняется в этике личных добродетелей. Рассматриваемое нами различие отражает разделение внутри самой моральной чувствительности между условиями правильного отношения к воспринимаемому или интуируемому и условиями правильного отношения к тому, что принципиально не воспринимаемо, — к интенциональной реальности других людей и взаимоотношениям с ними. Если мы придерживаемся убеждений, которые не оправдываются имеющимися реальными представлениями, то мы имеем ошибочное отношение к природе, но, с другой стороны, проявлением неуважения к другим людям будет неспособность верить в естественно не воспринимаемое моральное сообщество свободных и ответственных субъектов, к которому мы все принадлежим, — нечто не нереальное, но реальность которого доступна только через подчинение себя ему и через личностные изменения, сопровождающие это подчинение.
Возможно, любое убеждение, ради которого стоит попытаться верить, привлекает возможностью личностного преобразования. Религиозное обращение — самый яркий пример этого, но разве человек стал бы пытаться поверить в такую величину, как расстояние до Солнца, если бы не хотел обрести возвышенное сознание? Следовательно, одной из главных причин попытки поверить может быть стремление стать таким человеком, каким он обязательно станет, если будет вовлечен в реальность, на которую направлено убеждение. Теннисисты хотят быть настоящими теннисистами — а это требует веры в реальный корт. Кантианцы хотят быть по-настоящему моральными — что (по их мнению) требует веры в то, что в конечном счете имеет значение, честин ли человек или лжив, справедлив или жесток[7]. Мы рассматриваем моральную агентность или статус теннисиста как важную информацию не только потому, что это влияет на наши прогнозы поведения морального агента или теннисиста, но и как характеристику того, кем они являются в данный момент. Собственная реальность не остается в стороне от реальности, которую человек воспринимает.
Этот аргумент можно перевернуть: существование особого типа людей, взаимодействующих с определенной реальностью, само по себе является основанием для ее постижения, является свидетельством ее существования как для других, так и для них самих. Не могло бы быть настоящих теннисистов, если бы теннис не мог быть воспринят, не существовало бы реальных моральных агентов, если бы мораль не могла быть воспринята, не существовало бы подлинно благочестивых людей, если бы божественное было неосуществимым. (Первый аргумент Игрока 1 можно развить в этом направлении, заменив «Само наше действие, как если бы корт существовал, гарантирует его существование в значимом смысле» на «Наше личное участие в теннисе является заметным признаком необходимых условий тенниса реальности-для-нас-всех». Игрок 2 прав в том, что «действовать как будто» не гарантирует реальности чего-либо, если предполагается, что действие создает реальность, но Игрок 1 лишь хочет соотнести действие с реальностью). Этот тип свидетельства обнадеживает, но не принуждает — существование верующего вряд ли можно считать доказательством существования Бога, — и поэтому оно может быть отвергнуто, хотя будет приветствоваться теми, кто ищет опору для своей веры или попытки поверить. Можно скептически относиться не только по отношению к X, но и к личным качествам, которые якобы связаны с верой в X.
Каким образом мы решаем, обманывает ли сам себя другой человек или нет? Кажется, что мы рассматриваем количество и характер усилий, вложенных в его веру, как критерий ее истинности. Когда мы имеем дело с вещами, которые по своей природе воспринимаемы или интуитивно понятны, усилие верить вызывает подозрение, поскольку это обычно означает, что сами явления не поддерживают веру. Но когда речь идет о непостижимых вещах, таких как другие разумные существа и отношения как таковые, наиболее сомнительными оказываются именно те убеждения, которые держатся безо всяких усилий — например, моральные убеждения, являющиеся лишь следованием господствующим социальным нормам, или христианство «христианского мира», которое критиковал Кьеркегор. В этих убеждениях, не требующих усилий, есть две главные проблемы: во-первых, они путают видимое с невидимым («что делают люди» и «что говорят люди» с «правильным» и «истинным»), что является неуважением к самому объекту веры; во-вторых, они оставляют субъекта в состоянии лености, непробужденного и ненастроенного, недореализованного как субъекта. По этим двум причинам фундаментальные убеждения требуют усилий. Осознание того, что моральный агент должен приложить усилия, чтобы поверить в моральное сообщество, является признаком того, что оно действительно существует, ведь если бы оно существовало, именно это и требовалось бы для его восприятия. Обманывающие себя люди менее склонны выбирать трудный путь (если только по каким-то особым психологическим причинам они не пойдут по чрезмерно трудному пути).
Само по себе старание считается чем-то хорошим и, до определенного момента, положительным признаком для того, к чему оно направлено. Мы ценим старание как необходимое условие для достижения многих целей; но, что еще важнее, мы почитаем откровение, происходящее в процессе старания, поскольку оно выявляет как способности самого старающегося (пополняя известное ему бытие), так и его способность выдерживать усилия, то есть казаться стоящим настолько долго, что его кажущаяся ценность все больше становится настоящей ценностью. Старание — это главное выразительное средство в драме становления и угасания вещей, питающей наши надежды и страхи. Наиболее важно, что старание порождает некую отзывчивость в случаях, когда человек пытается верить: жест доброй воли по отношению к другим существам, преданность основному благу, осознание и сотрудничество с ними, которое делает их существование наполненным. Однако у старания есть свой жизненный цикл: оно должно привести к успеху. До определенного момента оно героично, после этого — трагично или нелепо. Простое добавление старания к существованию субъекта без достижения результата в итоге оказывается бессмысленным, необоснованным, неуместным: в лучшем случае потенциально большим бытием, но никогда не реальным.
Соответственно, если бы мы видели только чьи-то стремления поверить в моральное сообщество или в конкретное моральное благо, мы бы считали его скорее потенциальным моральным агентом, чем реальным. Люди, которым приходится слишком сильно стараться, чтобы увидеть ценность честности, вызывают у нас ощущение серьезного несовершенства нашего с ними сообщества. Люди, постоянно борющиеся с чувством, что супружеская измена может быть чем-то хорошим, на самом деле не являются полноценными супругами. (В аналогичном религиозном случае «верующие», которым приходится слишком усердно верить, на самом деле не являются истинными верующими; абсурд, провозглашенный объектом веры, не может быть просто максимально сложным объектом веры.)
Можно возразить, что различие между настоящим и потенциальным моральным агентом бессмысленно, поскольку любое намерение — это, по сути, «потенциальность». Однако намерения явно зависят от того, связаны ли они с чем-то реальным. Например, есть большая разница между моим намерением быть другом незнакомцу, которому я симпатизирую на расстоянии, и моим дружеским намерением, которое сохраняется в ходе взлетов и падений фактического знакомства. С другой стороны, настоящий моральный агент не может быть полностью лишен стремления к вере в моральные убеждения, иначе эти убеждения утратили бы свой неестественный характер. Должен существовать определенный баланс между борьбой и успехом, между постулированием и подтверждением, благодаря которому усилия верующего квалифицируются как «притяжение объектом», а реальность объекта — как «реализуемая субъектом».
Проще всего увидеть это на примере людей, глубоко озабоченных ненаблюдаемой интенциональностью друг друга, например, влюбленных. Каждый из них любит благодаря способности другого вызывать любовь, но эта способность обусловлена или, в определенном смысле, даже создана самим актом любви. Один из них уезжает в путешествие; другой охвачен сомнениями, он должен стараться верить в любимого, используя свои силы доверия и тем самым наделяя другого человека заслуживающей доверия надежностью; затем воспоминания о поступках любимого и письмо, пришедшее по почте, отвечают интенции доверия и подтверждают ее — но не настолько, чтобы устранить саму необходимость верить. Требование успеха удовлетворяется, и при этом старание продолжается. Хотя можно считать, что совершенное доверие является квазиинстинктивным и превосходит необходимость стараться, несомненно, следует сохранять различие между доверием и «животной верой», и кажется, что это различие может основываться только на непреодолимом элементе старания в структуре доверия — вере.
…
Давайте еще раз рассмотрим положение кантианцев. Они не могут получить подтверждение своей веры в «кантианский рай», потому что понимают свою идею о нем, как продукт собственного разума и считают невозможным реальное постижение объекта идеи, который должен лежать за пределами всякого чувственного опыта. Поэтому они обречены на старание верить без какого-либо успеха, что подрывает само это старание. Это тень, нависающая над всей кантианской стратегией постулатов практического разума.
С другой стороны, действительно существуют верующие в воздаяние за добродетель, которые, хотя и сталкиваются с трудностями, связанными с верой, при этом не остаются с полным отсутствием ее подтверждений. Они не просто постулируют, а действительно верят. При каких поправках в кантианской философии было бы возможно этого добиться? Это могло бы произойти одним из двух способов или сразу обоими:
(1) Посредством нахождения в божественном откровении подтверждения того, что предполагает человеческий разум; например, через восприятие слов псалма об ожиданиях праведников как божественного изречения или как некое иное поручительство Бога.
(2) Посредством восприятия определенных феноменальных событий как свидетельства постулируемого ноуменального порядка; например, интерпретируя чувство удовлетворения от честного поступка, скажем, возвращения потерянных денег, как подтверждение веры.
В обоих случаях можно испытать своего рода овладение ощутимого неощутимым, при котором неощутимое становится косвенно ощутимым. Нельзя полностью исключить возможность того, что это событие вызвано наложением ожиданий или желаний субъекта на явления; однако поскольку чрезмерное беспокойство об этой возможности мешает нам честно относиться ко всему, что мы переживаем как реальное, мы должны вынести это беспокойство за скобки (как поступил Юм со своими скептическими сомнениями).
Далее, нам следует задуматься о том, что именно такого рода события необходимы для наших повседневных отношений с намерениями других людей, которые мы не вправе отвергать. Я сталкиваюсь с намерением другого человека через воспринимаемые события, которые не тождественны этому намерению. Намерение другого человека несомненно существует для меня, я должен с ним считаться, оно часто весьма очевидно в одном смысле, но в то же время можно сказать, что я никогда не вижу его просто так. Если бы я видел его напрямую, у меня не было бы эпистемического пространства, чтобы задаться картезианским вопросом, является ли существо, перед которым я стою, роботом или человеком; а у меня есть это пространство; однако я не имею права не признавать человека человеком, поскольку я связан сверхпознавательной «моральной уверенностью». Я должен верить в полноту личности другого — или, точнее, меня призывают к этому. Эта вера может основываться на некоем невольном основании, на том, что другие люди «овладевают» мной еще до любых моих сознательных решений, но, помимо этого, она всегда включает в себя определенное усилие, обычно невидимое, подобное усилию, с которым человек крутит педали велосипеда, чтобы не упасть.
Предположим, чтобы поупражняться в моральном воображении, я хочу поставить себя на место другого человека. Я должен представить себе, что такое быть этим другим человеком. (Велосипед ускоряется, делает более крутой поворот…) Если я попытаюсь постичь этого другого как реального с помощью концепции чужой субъективности, в целом похожей, но в деталях отличающейся на моей собственной и находящейся «там», мне придется прикладывать значительные усилия, чтобы добиться успеха; каким-то образом я должен вложить в концепцию альтер-эго свою «моральную уверенность» в реальности других, которую я имею в непосредственном взаимодействии с ними. (Эти взаимодействия изначально происходят с «Ты», а не с «Другими-Я».) Чтобы объединить эти факторы, требуются субъективные усилия. Это попытка верить, но не обреченная, поскольку, как мы видим, рассматривая способы, которыми мы можем осознавать других людей, мы находим множество подтверждений, и чем их больше, тем лучше мы сами.
…
Мы рассмотрели партнерство между субъектом и объектом в сфере «веры», которая является относительной для отдельного субъекта, а не в сфере «знания», применимой ко всем субъектам. Мы исследовали нестабильный и неоднозначный аспект этого партнерства — процесс усилия, в котором субъект принимает на себя пропорционально большую ответственность за утверждение существования и природы объекта, чем сам объект. Мы обнаружили, что попытка верить неизбежно связана с формированием некоторых убеждений, даже если сама вера не является полностью добровольной, и что такая попытка особенно необходима в сфере неэмпирических убеждений, служа (до определенного момента) признаком их подлинности, а (после этого момента) признаком их бесплодности.
Фоновое предположение, лежащее в основе данного исследования, но не получившее детального освещения, заключается в следующем: качество жизни сознательного существа обогащается или обедняется в зависимости от того, признает ли оно других существ реальными. Иными словами, вера имеет значение по двум тесно связанным причинам: (1) идентичность и богатство мира, каким его воспринимает субъект, зависит от того, считаются ли в нем присутствующими А, В или С, и (2) идентичность и богатство самого субъекта зависит, по крайней мере частично, от того, с чем ему приходится взаимодействовать. Полный аргумент в пользу этих положений выходит за рамки данного эссе, и, возможно, они больше напоминают аксиомы, чем аргументируемые положения, но их всегда следует иметь в виду, поскольку многие дискуссии о вере их игнорируют.
Smith S. Trying to Believe and the Ethics of Belief //Religious studies. – 1988. – Т. 24. – №. 4. – С. 439-449.
[1] Тед Аммон, Джимми Кимбрелл и Луис Пойман дали мне очень полезные критические замечания по поводу ранней версии этого эссе
[2] Всесторонний обзор многочисленных вариаций «волюнтаристских» и неволюнтаристских представлений о вере см. в Louis Pojman, Religious Belief and the Will (London: Routledge & Kegan Paul, 1986).
[3] См. Critique of Pure Reason B 856, и вторую часть Critique of Practical Reason. Критику рассуждений Канта см. В S. Smith, «Worthiness to Be Happy and Kant’s Concept of the Highest Good», Kant-Studien LXXV (1984), 168–90.
[4] См. главу 11 второй части Critique of Practical Reason, Ak. r 10—19, об «antinomy of practical reason» и ее «critical resolution».
[5] Я следую Newman, Grammar of Assent, ch. 4
[6] Critique of Pure Reason, B 850.
[7] Critique of Judgment 458 (Akademie ed.); пер. с англ. W. Pluhar (Indianapolis: Hackett, 1987), p. 34.