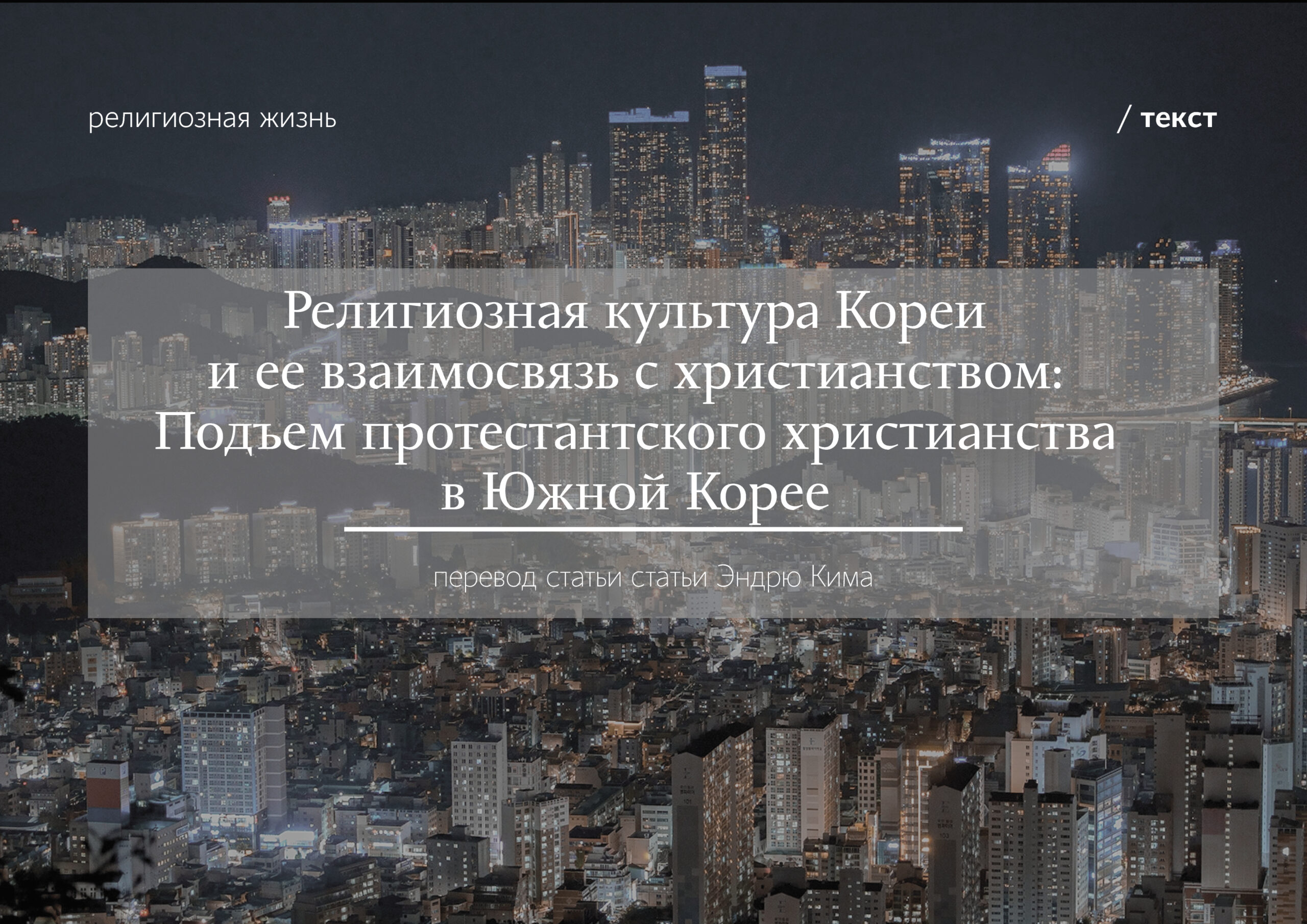Данное исследование предлагает анализ сходства между корейской традиционной религиозной культурой и протестантским христианством с целью выявления нескольких точек соприкосновения, которые усилили привлекательность импортируемого вероучения в Южной Корее. В частности, особое внимание уделяется корейскому шаманизму — непреходящему ядру корейской религиозной и культурной мысли — для того, чтобы объяснить, почему его мировоззрение и практики заняли важное место в уникальной корейской форме протестантизма. В статье также рассматривается, каким образом специфические протестантские доктрины и практики были изменены или акцентированы в соответствии с диспассионарностью корейского народа. Данное исследование показывает, что обращение в христианство в Южной Корее не было эксклюзивистской сменой религиозной принадлежности, то есть не требовало отказа от традиционных убеждений. Напротив, миллионы южнокорейцев охотно приняли христианство именно потому, что новая вера была представлена как продолжение корейской религиозной традиции.
В Азии проживает примерно 73 миллиона протестантов, что составляет около 2% от общего населения континента. Хотя протестанты есть практически в каждой азиатской стране, наиболее впечатляющий и социологически значимый рост протестантизма произошел именно в Южной Корее. С момента своего появления в 1884 году протестантизм стал второй по величине религией в стране после буддизма. К 1989 году почти четверть из 40 миллионов жителей Южной Кореи исповедовали протестантизм. Особенно быстрый рост наблюдался с начала 1960-х до конца 1980-х годов — в период активной модернизации страны. Если в начале 1960-х годов число протестантов в Южной Корее едва превышало один миллион, то в последующие десятилетия их количество увеличивалось быстрее, чем в любой другой стране, удваиваясь каждые десять лет. К 1989 году в стране насчитывалось 29 820 протестантских церквей и 55 989 пасторов, что сделало протестантскую церковь Южной Кореи одной из самых динамичных в мире.
Этот рост особенно впечатляет, учитывая, что протестанты составляют всего около 2% населения Азии (при этом только Южная Корея в 1989 году насчитывала более 14% всех азиатских протестантов). Кроме того, христианство — как католицизм, так и протестантизм — так и не смогло укорениться в Японии, соседней стране со схожей социальной организацией и общими культурными традициями, где менее 1% населения приняло христианство.
Несмотря на важность изучения «христианского вопроса» в азиатском контексте, социологическое внимание к этой теме до сих пор остаётся ограниченным. В частности, социология религии практически не исследовала феномен стремительного распространения протестантизма в Южной Корее. Хотя существует ряд значимых специализированных работ (Kang 1997; Paik 1971; Min 1982; Clark 1971; Moffett 1962; Grayson 1985), они в основном посвящены историческому анализу.
Чтобы восполнить этот пробел, данное исследование анализирует сходство между корейской религиозной культурой и протестантизмом, выделяя ключевые точки соприкосновения, которые усилили привлекательность новой веры для корейского общества. Автор утверждает, что стремительный рост протестантизма в Южной Корее в 1960-х, 70-х и 80-х годах[1] отчасти объясняется тем, как христианство переплелось с традиционными корейскими религиозными представлениями и практиками[2]. Кроме того, корейские священнослужители, стремясь сделать протестантизм более понятным для потенциальных верующих, акцентировали определённые аспекты учения, особенно те, что перекликались с шаманистским мировоззрением.
Примеров сходства между корейской религиозной традицией и протестантизмом множество, но наиболее важными являются следующие аспекты: акцент на мирской жизни; концепция Хананим; образ Бога как спасителя; приоритет веры в исцеление; и центральное место этики и семейных ценностей[3].
Как мы увидим, полное объяснение и правильное понимание этой уникальной динамики неизбежно потребует обращения к теории имплантации Джеймса Грейсона. Эта теория утверждает, что рост и развитие миссионерской религии в принимающем обществе зависят от пяти групп взаимосвязанных факторов, два из которых имеют отношение к данному исследованию: 1) разрешение противоречий между новой доктриной и базовыми ценностями принимающего общества; и 2) разрешение конфликта между новой доктриной и существующими религиями принимающего общества (Grayson 1985: 130). В качестве аналитической рамки, модель имплантации требует учета соответствия между «привлекательностью» и «восприятием», то есть согласования как послания, так и базовых ценностей принимающего общества. Это исследование также опирается на другие работы об обращении в христианство, чтобы проверить, поддерживают ли они какую-либо конкретную линию аргументации, например, «интеллектуалистские» объяснения христианского обращения (Horton 1971).
АКЦЕНТ НА МИРСКОЙ ЖИЗНИ
Шаманизм традиционно оказывал наиболее сильное религиозное влияние на корейский народ (Moon 1975, 1982; Jo 1983; Howard 1998). Наиболее поразительной характеристикой этой народной религии является её озабоченность материальными желаниями. Фактически, основная цель шаманизма — удовлетворение практических потребностей: люди обращаются к шаману в надежде реализовать свои материальные желания, такие как долголетие, здоровье, рождение сыновей и богатство. С его акцентом на существование духов, особенно духов предков, которые, как считается, влияют на изменчивые судьбы каждого человека, шаманизм таким образом удовлетворял мирские, материалистические, фаталистические, магические и даже утилитарные наклонности корейцев. Таким образом, шаманизм стал прочной основой корейской религиозной и культурной мысли, оказывая сильное влияние на развитие корейских установок и норм поведения, а также культурных практик. Его влияние было настолько мощным, что новые религии должны были идти на компромисс и впитывать элементы шаманизма, чтобы быть принятыми корейским народом. Протестантизм не стал исключением: он должен был быть значительно «шаманизирован», чтобы стать более приемлемым для религиозного воображения корейцев. Протестантские церкви выборочно выделяли христианские доктрины, схожие с шаманскими верованиями, и включали многие аспекты шаманских ритуалов.
Таким образом, отвечая материальным интересам традиционной системы верований, корейский протестантизм сознательно и намеренно принял форму магической религии, обращая особое внимание на настоящее и мирские вознаграждения. Утопия, которую подчеркивало подавляющее большинство протестантских церквей в Южной Корее, представляла собой материальный и экономический рай, который должен быть реализован в этой жизни, а не в следующей (Ryu 1965; Yun 1964; Lee 1977). Корейские церкви также преувеличивали представление о способности Бога улучшать условия жизни, пробуждая ожидания, схожие с теми, что вызываются концепцией магической силы. Большое внимание уделялось мирскому аспекту Царства Божьего, рисуя общество, в котором исполняется воля Бога и где обильная жизнь будет привилегией для всех[4]. Хотя это были идеалы, к которым корейские церкви призывали верующих стремиться с безраздельной преданностью, слишком часто они понимались как обещание, что протестантское христианство создаст такое сообщество для своих членов.
Акцент на Божьей благодати в исполнении материальных желаний людей был особенно заметен в проповедях. Например, в своем анализе собранных проповедей тридцати ведущих пасторов Южной Кореи Тэгон Ким (1983) обнаружил, что тема материальных благословений при принятии Бога в качестве Спасителя была преобладающей в их проповедях, а случаям чудес в Библии уделялось особое внимание. Ярким примером такого акцента на Божьих материальных благословениях в этой жизни было центральное послание Пола Ёнги Чо, пастора Центральной церкви Полного Евангелия в Сеуле, самой большой церкви в мире с 500 000 прихожанами в 1989 году. Слоган церкви, который привлекал большие аудитории — и вдохновлял другие церкви на подражание — был тройным благословением Христа, а именно: здоровье, процветание и спасение, содержащимся во втором стихе третьего послания Иоанна. Проповедуя «теологию процветания», Чо и его последователи продвигали идею, что принятие Святого Духа может означать, что человек, помимо благословения спасением в будущей жизни, получает благодать здоровья и материальных успехов в этом мире. В дополнение к тройному благословению, южнокорейские пасторы также подчеркивали восемь других благословений Христа из Евангелия от Матфея (5:3–10), особенно те отрывки, которые имели материалистические последствия (Park 1982: 38–39): «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (буквально интерпретировалось как получение права собственности на землю); и «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Они также утверждали, что болезнь, бедность, неудача в бизнесе или любое другое несчастье являются просто следствием греха и духовной нечистоты.
Такой акцент на материальных вознаграждениях со стороны корейского духовенства находил параллель в столь же сильной мирской ориентации корейских протестантов. Согласно опросам Gallup Korea за 1984 год (1984: 40), около 55% протестантских респондентов (N = 334) согласились, что рай или небеса находятся не в ином мире, а в этом[5]. Более того, они считали мирские ценности более значимыми, чем религиозные или доктринальные: 19,8% респондентов назвали здоровье, а 16,7% выбрали деньги и богатство как самые важные вещи в жизни, в то время как только 13,1%, 6,6% и 5,9% респондентов признали истину и честность, любовь и доверие высшими ценностями соответственно (Korea Gallup Polls 1984: 40).
Опрос прихожан Центральной церкви Полного Евангелия в Сеуле также продемонстрировал преобладание мирской ориентации среди корейских протестантов. На вопрос о мотивах веры в протестантское христианство 30,6% из 921 респондента указали исцеление, а 37,6% признали материальные благословения основными причинами обращения к новой вере (D. Kim 1981: 94). Эти показатели были значительно выше, чем религиозные мотивы, такие как спасение (16,9%) и вечная жизнь (7%). В том же опросе большинство членов церкви заявили, что их обращение в протестантизм действительно привело к более обеспеченной и процветающей жизни (41,2% респондентов отметили, что посещение церкви улучшило их уровень жизни).
Мирская направленность корейских протестантов также проявлялась в том, как многие христиане связывали цель пожертвований с земными благословениями. Ярким примером этому служит практика совонхоным (пожертвование-прошение), при которой верующие регулярно приносили в конверте деньги вместе со списком желаний, о которых следовало молиться. Камсахоным (пожертвование-благодарность) также иллюстрирует мирской характер христианской жизни, поскольку корейские христиане жертвовали деньги церкви при наступлении «счастливых событий» (например, рождение сыновей, поступление детей в университет, успехи в бизнесе или выздоровление), стремясь выразить благодарность Богу и обеспечить продолжение Его благословений.
Результаты опросов последовательно подтверждают общую тенденцию корейских христиан связывать пожертвования с исполнением желаний. Согласно данным Gallup Korea (1984: 49), 34,8% христианских респондентов (N = 334) согласились с утверждением, что «жертвующий деньги церкви получит взамен большее процветание». В последующем опросе 1989 года 34,2% респондентов (N = 383) поддержали это же утверждение (Korea Gallup Polls 1989: 152). Аналогично, Чунги Ким и др. (1982: 101) обнаружили, что 68,9% протестантских респондентов (N = 1,234) указали «благодарность за Божьи благословения» как причину своих пожертвований.
Все это побудило известного корейского теолога Чжинён Чунга (1977: 42) заявить, что «посещение церкви корейскими христианами, их усердие в утренних молитвах и щедрость в пожертвованиях тесно связаны с их стремлением к исполнению мирских желаний».
Помимо выражения индивидуальных материальных интересов, другая особенность корейского христианства, отражающая его мирскую направленность, связана с национальной идеей. Многие пасторы и христианские лидеры продвигали представление о том, что становление и процветание корейских церквей, а также христианизация нации являются патриотичным и надежным средством спасения страны от всех социальных бед. Они утверждали: если Корея станет христианской нацией, Бог в ответ благословит страну, даровав ей процветание и национальную мощь. Эта идея занимала центральное место в проповедях многих священнослужителей на протяжении истории корейского протестантизма, особенно с 1950-х годов (Jung 1986: 19-26)[6].
Любимой цитатой из Библии в этом контексте была: «Правда возвышает народ» (Притчи 14:34). Широко использовались истории Ветхого Завета, показывающие, как Яхве даровал процветание еврейскому народу за послушание и насылал бедствия за поклонение другим богам: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой… вы будете у Меня народом святым» (Исход 19:5); «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Псалом 33:12). Безусловно, этот акцент на национальном спасении, часто связанный с мирским обогащением и усилением нации, помогал корейским церквям апеллировать к патриотическим чувствам южнокорейцев, особенно после японского колониального господства и Корейской войны[7].
Таким образом, корейский народ, веками обращавшийся к шаманизму в надежде разрешить мирские проблемы через молитвы и обряды, принял христианскую веру по той же причине, по сути заменив традиционную форму магической религии на новую. Представление о том, что материальное процветание и духовное утешение являются знаком Божьего благословения за искреннюю веру, сильно привлекало многих новообращенных. Для формирующегося корейского среднего класса с его сугубо материальными заботами это «материалистическое евангелие» оказалось непреодолимо привлекательным.
КОНЦЕПТ «ХАНАНИМА»
Ещё одним способом разрешения потенциального несоответствия между новой доктриной и традиционными ценностями корейского народа стало принятие издревле почитаемой концепции Хананим («небесный бог»). Не случайно первые корейские протестанты приняли Хананим в качестве верховного Бога своей новой веры — они прозорливо осознали, что этот термин относился к высшему божеству в религиозной культуре Кореи с древнейших времён, и что его использование как верховного божества в протестантизме позволит корейцам легче принять новую веру. Ранние миссионеры также ценили Хананим как самобытное корейское божество, соответствующее их собственному образу Бога (Grayson 1985: 137).
«У корейцев всегда был Хананим — имя, охватывающее идею единого верховного разума, единого Бога. Этот Бог корейцев подобен Богу еврейского Ветхого Завета… На этом глубоко укоренённом монотеизме христианские миссионеры построили свой поразительный успех» (Scott 1920: 699).
Подобно христианской концепции Бога, корейцы издавна понимали Хананим как верховное божество, управляющее делами неба и земли и контролирующее судьбы людей.
Сила Хананим считается абсолютной: он всемогущ, всесилен и всеведущ[8]. Практически каждый кореец знает и верит в существование и силу Хананим. Считается, что Хананим, подобно древнему Яхве, создал людей и мир, дал жизнь корейскому народу и основал его цивилизацию. Также верят, что Хананим обладает всеобъемлющим состраданием, отвечает на молитвы людей и освобождает их от страданий. В моменты слабости корейцы молились Хананиму о милости и благодати, а также о силе преодолеть невзгоды, неподвластные человеческой воле. Корейцы также верили, что Хананим неотвратимо наказывает тех, кто совершает преступления и грехи против общественного блага: считалось, что злодеев или дурные поступки настигает божественная кара или «небесная месть».
Таким образом, для корейского протестантизма принятие термина «Хананим» в качестве Верховного Бога имело фундаментальное значение, создав точку соприкосновения между корейской религиозной культурой и привнесённой верой. Это позволило осуществить плавный переход от традиционного представления о Боге к христианскому образу (Ryu 1965: 37; C. Kim 1945).
Значение этой терминологической преемственности невозможно переоценить, особенно учитывая, что в истории миссионерства по всему миру конфликты между местными религиозными концепциями и христианскими были обычным явлением, серьёзно затрудняя миссионерские усилия. Однако в корейском контексте терминологических конфликтов не существовало; более того, точное использование местного названия Верховного Божества в христианском контексте не только способствовало принятию новой веры местным населением, но и помогало обращать новых верующих.
Таким образом, впечатляющий рост протестантизма в Южной Корее отчасти объясняется тем, что склонные к шаманизму корейцы обнаружили зеркальное отражение своего верховного божества в привнесённой вере. Знакомство корейцев с этой концепцией позволило осуществить плавный переход от традиционного представления о Боге к христианскому пониманию. В этом смысле термин «Хананим» можно рассматривать как символ связи между корейской шаманской традицией и протестантским христианством, или как символическое (и фактическое) продолжение первой во второй под новой оболочкой.
ОБРАЗ БОГА КАК «СПАСИТЕЛЯ»
Терминологическое и концептуальное соответствие, достигнутое благодаря христианскому принятию Хананим, было дополнительно усилено настойчивым утверждением церкви о функциональной эквивалентности Хананима в старой и новой религиях. Корейское духовенство пропагандировало убеждение, что христианство как вера во всемогущество Хананим является религией, которая приносит процветание в этом мире и духовное спасение в мире грядущем. Соответственно, Хананим и Иисус Христос стали восприниматься как «раздатчики благ», подобно шаманским божествам. Как и древний Хананим, Верховный Бог христианства изображался как милосердное божество, откликающееся на все человеческие нужды. Более того, для многих христиан этот акцент на исполнении материальных желаний через веру в Хананим стал олицетворять суть новой религии.
В истории корейского протестантизма Бог, помимо образа творца и хранителя вселенной, наиболее ярко характеризовался как магический правитель, раздающий благодать по своей воле. Действительно, вера в то, что Бог чудесным образом вмешается, чтобы помочь нуждающимся, была широко распространена среди корейских протестантов. Такой образ Бога как Спасителя подчеркивался через отсылки к всеведению и всемогуществу Бога: через силу или благодать Бога можно освободиться от страданий, обрести спасение, исцелиться или получить утешение. Неудивительно, что корейские молитвенники изображали Бога как сущность, к которой обращаются в трудные времена; он — «сущность», которой манипулируют люди, чтобы исполнить свои желания (Biernatzki et al. 1975: 6). Подобно своим предкам, многие корейские протестанты научились манипулировать божественной силой в надежде контролировать события повседневной жизни.
В корейском протестантизме образ Бога как спасителя поддерживался двумя способами. Первый заключался в глубоком понимании и принятии христианами библейских чудес и всемогущества Бога. Опросы корейских христиан неоднократно показывали их веру в чудеса и возможность их повторения в настоящем. Например, в опросе 1231 протестанта из церквей по всей Южной Корее Чжунги Ким и его коллеги (1982: 75) обнаружили, что 84,5% респондентов верят в библейские описания чудес, а подавляющее большинство — 99,4% — воспринимают их положительно. Аналогично, опрос, проведённый Христианским институтом по изучению справедливости и развития (1982: 56), показал, что 94,6% респондентов выразили веру в чудесные деяния Иисуса Христа. Более того, в том же опросе (1982: 59–60) 63,6% респондентов заявили о своей вере в силу Бога разрешить все проблемы церквей в Южной Корее, что демонстрирует их убеждённость во всемогуществе Бога. Последующие опросы, проведённые Korea Gallup Polls (1984, 1989), также выявили схожие тенденции: в 1984 году 83,9% христиан среди опрошенных (N=334), а в 1989 году — 88,8% (N=383) выразили веру в чудеса.
Идея Бога как Спасителя также подкреплялась постоянными отсылками к библейским стихам, изображающим Бога как мессию и освободителя. Например: «Когда они воззовут к Господу из-за угнетателей, Он пошлёт им спасителя и защитника, и избавит их» (Исаия 19:20); «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой… от лютых людей Ты сохранил меня» (2 Царств 22:2-3); «Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Псалмы 42:5, 42:11, 43:5); «Я сделаю так, что угнетатели твои будут есть собственную плоть, и, как от вина, упьются собственной кровью. Тогда все поймут, что Я, Господь, — Спаситель твой» (Исаия 49:26). Эти стихи, повторяемые в проповедях, формировали образ Бога как Спасителя, что стало главным аргументом для корейских священнослужителей. Для простых людей, традиционно связывавших молитвы к Хананим или духам с материальными желаниями, христианский Бог стал верховным существом, способным избавить их от страданий, исполнить земные желания и даровать счастье. В этом контексте южнокорейский протестантизм можно считать трансформировавшимся в своего рода милленаризм или мессианизм. Благодаря этому многие корейские христиане, особенно из социально незащищённых слоёв, обретали надежду и вдохновение, чтобы противостоять суровой реальности. Библейские рассказы о чудесах — и вера в возможность их повторения в современных условиях — привлекали миллионы новообращённых, искренне веривших в обещание христианства о лучшей жизни в ближайшем будущем.
ИСЦЕЛЕНИЕ ВЕРОЙ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ КАК ФУНКЦИИ КОРЕЙСКОГО ДУХОВЕНСТВА
Исцеление болезней и изгнание злых духов входят в число четырех важнейших функций шаманов в корейском шаманизме (наряду с жреческой и пророческой ролями). В этом контексте библейские повествования о чудотворной силе Иисуса Христа обнаруживают поразительное сходство с традиционными народными верованиями в магическую силу шаманов. Для многих корейцев, воспитанных в культуре, почитавшей исцеляющую и экзорцистскую силу шаманов, сверхъестественные элементы Священного Писания, такие как исцеление верой и изгнание бесов, не казались ни странными, ни удивительными. Более того, именно этот элемент волшебства оказался исключительно благоприятным для распространения христианства в Южной Корее.
Подаваемые как доказательство Божьей любви и силы, чудесные исцеления, описанные в Библии, большинством корейских священнослужителей возводились на уровень магического воздействия. Постоянно ссылаясь на библейские рассказы об исцеляющих деяниях Иисуса Христа – например, исцеление прокаженных (Мф. 8:2-3; Лк. 17:14), слепых и немых (Мф. 12:22), глухих (Мк. 7:32-35), хромых и увечных (Мф. 15:30; Лк. 13:13; Ин. 5:9) и «всякой болезни и немощи» (Мф. 4:23, 9:35) – корейские пасторы подтверждали исцеляющий потенциал Бога и христианской веры. Библейские повествования об изгнании Иисусом бесов, включая духов, вызывающих припадки (Мф. 18:15-18), крики и пену изо рта (Лк. 9:37-42; Мф. 8:28-32) и безумие (Лк. 8:27-36), также эффективно использовались для захвата религиозного воображения потенциальных обращенных.
Акцент корейского духовенства на первостепенной важности исцеления верой был продемонстрирован в исследовании более 1300 проповедей в десяти ведущих протестантских церквях Южной Кореи в период с 1978 по 1985 год (Christian Academy 1986: 25-44). Исследование показало, что тема исцеления верой наряду с другими чудесными деяниями Иисуса занимала наиболее значимое место в их проповедях, в то время как этические и назидательные темы оставались относительно малозаметными (Christian Academy 1986: 35-36). Эта тенденция была особенно выражена у пасторов крупных церквей или тех, что росли относительно быстрыми темпами.
Как показано ранее, важность темы исцеления верой в проповедях соответствовала широко распространённой среди корейских протестантов вере в библейские чудеса, многие из которых были связаны именно с исцелениями. Центральное место исцеления верой в жизни корейских протестантов также подтверждается многочисленными опросами. Например, опрос Korea Gallup Polls 1984 года показал, что 38,1% протестантских респондентов (N = 334) лично испытали исцеление верой, а в опросе 1989 года (N = 383) таких было 37,6%.
Истории об исцелениях верой (Ko 1982, 1988), пересказываемые в свидетельствах на молитвенных собраниях и пробуждениях, стали важным «козырем» для корейского духовенства, которое представляло их как доказательство земных благ, получаемых при обращении в христианство. Неудивительно, что пасторы многих ведущих церквей, практиковавшие исцеление верой, воспринимались как современные шаманы, обладающие магической силой[9]. Они использовали гипноз, произносили непонятные слова (сравнимые с феноменом глоссолалии в христианстве) и «общались» со злыми духами, якобы вселившимися в больного. Все эти практики, конечно же, параллельны характеристикам корейских шаманских обрядов исцеления и экзорцизма.
Проводя обряды исцеления во время воскресных служб и собраний пробуждения, корейские пасторы, по сути, превращали эти мероприятия в шаманские ритуалы, традиционно включавшие исцеление болезней и изгнание духов[10]. Более того, подобно популярному в Южной Корее представлению о роли шаманов, от одарённых пасторов ожидали способности общаться с духовным миром и обладания таинственной силой для изгнания болезней[11]. Такой акцент на исцелении привёл к широкой популярности проповедников пробуждения, специализировавшихся на исцеления, и церквей, где служили пасторы с предполагаемыми целительскими способностями[12].
Кроме того, сами корейские христиане высоко ценили опыт, несущий на себе шаманский отпечаток. Например, получение или переживание Святого Духа (соннён чхэхом), очень похожее на шаманскую одержимость духами (синдуллим), транс или экстаз, почитается корейскими христианами как средство для достижения глоссолалии, видений и исцелений.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ ЭТИКИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Нравственные и социальные ценности конфуцианства занимают важное место в мировоззрении корейцев, и высокие моральные принципы, проповедуемые протестантами, совпадали с тем, что чувствовали и думали многие корейцы, воспитанные в духе конфуцианства. Проще говоря, этические ценности протестантизма, касающиеся основополагающих учений о образе жизни, согласовывались с конфуцианскими моральными ценностями корейцев. Учения церкви против нечестности, политической коррупции, морального разложения, злоупотребления властью со стороны элиты, а также азартных игр, распутства и пьянства во многом соответствовали конфуцианским идеалам. Более того, как и конфуцианство, христианство — это не просто набор убеждений, которые нужно принять, а образ жизни, которому нужно следовать. Часто цитируемый текст находится в Евангелии от Матфея (7:21): «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Ранние миссионеры и корейское духовенство также подчеркивали сходство между христианскими и конфуцианскими учениями в вопросах практической морали и этики. Например, они настойчиво утверждали, что даже для глубоко конфуциански воспитанных корейцев при принятии Десяти Заповедей почти нечего отбрасывать. Особый акцент делался на пятой заповеди — «Почитай отца твоего и мать твою», — поскольку сыновняя почтительность всегда была высшей моральной обязанностью для корейцев.
Протестантизм также преподносился как разделяющий те же ценности, что и конфуцианство, в отношении семьи (Park 1966). Стремясь быть более приемлемым для корейского народа, сторонники христианства пошли на компромисс с местными социальными обычаями, касающимися семейных ценностей. В этом процессе определенные христианские принципы получили особую известность, невиданное в других местах. Как упоминалось ранее, конфуцианская сыновняя почтительность была представлена как аналог заповеди Иисуса почитать своих родителей, а уроки о послушании родителям стали заметной темой проповедей и воскресных школ в Южной Корее. Кроме того, чтобы поощрить послушание свекрови, как того требовал традиционный обычай, корейские церкви подчеркивали историю Руфи, в которой рассказывается о ее преданности в заботе о свекрови. Конфуцианский идеал подчинения жены мужу также подчеркивался как согласующийся с христианским учением о подчинении жены мужу, например: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Ефесянам 5:22–23). Даже в отношении статуса женщин в целом корейское христианство соответствовало традициям принимающего общества. Хотя роль Церкви в улучшении социального положения женщин в корейском обществе нельзя недооценивать, она все же придерживалась консервативной интерпретации в отношении прав женщин по отношению к мужчинам. Церковь, в соответствии с многовековой мужской гегемонией буддизма и конфуцианства, утверждала, что женщины должны подчиняться мужчинам, тем самым оправдывая существование неравенства между мужчинами и женщинами. Эти примеры показывают, как корейская Церковь стремилась подчеркнуть консервативные черты христианства, чтобы примирить его идеалы с идеалами принимающей культуры. Кроме того, для общества, которое уделяло пожилым людям особый социальный статус, христианские ценности, предписывающие почитание старших и авторитет мужчин, были легко приняты многими корейцами, которые видели в этих двух традициях одни и те же ценности.
Ещё одним ключевым элементом конфуцианских семейных ценностей является почитание предков. Тактично разрешив христианам проводить поминальные обряды, корейский протестантизм успешно избежал возможного отчуждения традиционно настроенных корейцев, сохранив у верующих чувство связи с прошлым. Хотя открытое традиционное почитание предков отвергалось, его место заняли христианские поминальные службы, схожие по смыслу и назначению. Фактически, Церковь в целом закрывала глаза на подобные обряды. В результате, большинство корейских протестантов регулярно проводят поминальные церемонии.
В своём исследовании поминальных обрядов среди корейских протестантов Сунха Рю (1987: 200) обнаружил, что более двух третей опрошенных проводили синкретизированные обряды почитания предков. Например, 21% респондентов, следуя конфуцианской традиции, готовили поминальные блюда и размещали их перед могилами перед проведением христианской службы. Более того, 16% проводили службы при зажжённых свечах перед фотографией усопшего. Также 11% сочетали использование фотографии, поминальной еды и свечей, в то время как 8% ограничивались фотографией усопшего. Приготовление поминальной пищи и использование фотографий (вместо традиционных табличек с именами предков) являются ключевыми элементами конфуцианских поминальных обрядов. Хотя эти действия не представляли собой полноценного конфуцианского почитания предков, они стали для корейских христиан способом отдать дань уважения предкам. Тактично разрешив эти синкретизированные, но укоренённые в традиции обряды, корейский протестантизм избежал конфликта ценностей, что способствовало впечатляющему росту этой привнесённой религии в Южной Корее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование стремилось показать, что стремительный рост протестантизма в Южной Корее в 1960-х, 70-х и 80-х годах частично объясняется тем, как определенные доктрины и практики привнесенной веры согласовывались с народными традициями. В ходе исследования было выявлено, что сходство между двумя традициями формировалось благодаря избирательному акцентированию определенных христианских учений и посланий. Стремясь сделать протестантизм более приемлемым для потенциальных обращенных, корейские пасторы выделяли конкретные христианские идеи и обряды, особенно те, что соответствовали шаманистскому мировоззрению, чтобы усилить привлекательность новой веры для широких масс. Среди этих посланий были: обещание исполнения земных желаний, образ Бога как гаранта благополучия, практика сверхъестественного исцеления — все то, что соответствовало религиозным ожиданиям корейцев. Таким образом, корейцы воспринимали новые доктрины как совместимые с привычными им ценностями. Для некоторых верующих (по крайней мере, в их понимании и практике) христианство становилось не столько принципиально новой религией, сколько традиционной религиозной системой, облаченной в форму западной религии.
Это свидетельствует о том, что между новой доктриной и традиционными религиями Кореи не существовало реального ценностного конфликта. Такая гармония стала возможной в первую очередь благодаря усилиям корейских пасторов. В своем миссионерском усердии они адаптировали христианство, приведя его в соответствие с традиционными религиозными воззрениями корейцев. Особенно это проявилось в верованиях и практиках, имевших выраженные шаманистские черты. Подобно шаманизму, корейский протестантизм выдвигал на первый план исполнение мирских желаний как преимущество обращения в христианство, превратив это в главный евангельский посыл или, можно сказать, «уникальное торговое предложение». Таким образом, глубокая заинтересованность в физическом здоровье и материальном благополучии здесь и сейчас — характерная черта корейских религиозных воззрений — стала центральным элементом корейского протестантизма. Более того, образ и роль корейского духовенства переняли многие характеристики шаманов, создавая впечатление их тождественности. В результате в Южной Корее границы между христианством и шаманизмом в целом, и между церковной службой и шаманским ритуалом в частности, стали размытыми. Как и другие традиционные религии Кореи, христианство прошло процесс роста через слияние и наслоение традиционных корейских форм верований и практик. И миссионеры, и особенно местное духовенство переводили христианские идеи в формы, глубоко созвучные корейскому религиозному воображению.
Еще одним фактором, способствовавшим росту христианства в Южной Корее, стало отсутствие существенных противоречий между новой доктриной и базовыми ценностями корейского народа. Нравственные и социальные установки конфуцианства, во многом определявшие мировоззрение и поведение корейцев, совпадали с высокими моральными стандартами, проповедуемыми протестантами, что устраняло потенциальные ценностные конфликты, способные препятствовать распространению нового учения. Акцент Церкви на сыновней почтительности, принятие мужского доминирования, а также ее этические наставления относительно основ жизненного уклада соответствовали конфуцианско-ориентированным моральным ценностям корейцев. Таким образом, христианство не противоречило и не отрицало большинства аспектов традиционных верований населения. Как отмечал известный историк корейской церкви Сэмюэл Моффетт (1962: 52): «Подобно конфуцианству, оно [христианство] проповедовало праведность и почитало ученость; подобно буддизму, стремилось к чистоте и обещало загробную жизнь; подобно шаманам, христиане верили в исполнение молитв и чудеса».
Данное исследование согласуется с теорией «имплантации» Грейсона, поскольку впечатляющий рост христианства в Южной Корее в значительной степени основывался на минимизации противоречий между новой доктриной и корейскими ценностями, а также на снижении конфликта между новой верой и традиционными религиями Кореи. Оно также соответствует существующим кросс-культурным исследованиям христианской конверсии, показывающим, что христианство демонстрировало значительные успехи в распространении путем включения различных культурных особенностей в локальные контексты (Saunders 1988; Badone 1990; Hefner 1993). «Кореизация» христианства оказалась исключительно успешной в Южной Корее, что, по-видимому, дает ответ на вопрос, почему некоторые общества охотно принимают новую веру, тогда как другие оказывают сопротивление. Это ставит под сомнение валидность так называемого «интеллектуалистского» подхода к религиозной конверсии (Horton 1971; Skorupski 1976: 183-204), объясняющего обращение как смену религиозных убеждений на более предпочтительные из конкурирующих систем взглядов на основе их объяснительной силы. Также подвергается сомнению точка зрения, согласно которой обращение влечет за собой изменения в убеждениях, ценностях, идентичностях и дискурсивных практиках индивидов (Snow and Machalek 1984). Южнокорейский пример показывает, что обращение происходило без кардинальной трансформации убеждений или ценностей. Единственным существенным изменением, по-видимому, стал сдвиг в идентичности. Принимая новую веру, корейские протестанты не были вынуждены отказываться от своих традиционных религиозных представлений и привычек, поскольку ключевые корейские религиозные ценности были адаптированы. Действительно, обращение в протестантизм в Южной Корее не требовало отказа от старых верований. Переосмыслив протестантские доктрины и практики в рамках местной традиции, корейские протестанты смогли сохранить суть своих традиционных религиозно-культурных представлений и практик в новой вере. Таким образом, южнокорейский пример опровергает тезис о том, что мировые религии распространяются за счет традиционных культур и обществ. В Южной Корее мы наблюдаем, напротив, экспансию христианства, мирно сосуществующего с прежними верованиями. Подобно другой мировой религии, укоренившейся в Корее – буддизму, – христианство пошло на компромисс и впитало элементы традиционной корейской религиозной культуры, чтобы быть принятым корейским народом.
Отчасти это объясняет, почему католицизм, насчитывавший около двух с половиной миллионов последователей к началу 1990-х годов, не рос столь же быстро, как протестантизм в тот же период. За исключением принятия древней практики почитания предков как традиционного обычая, католическая церковь не шла на компромиссы в вопросах теологии и форм богослужения, чтобы соответствовать религиозным склонностям корейцев.
REFERENCES
Ahn, B. 1985. The Korean Church’s understanding of Jesus. Intemational Review of Miss/on 124: 81-91.
Badone, E., ed. 1990. Reli~ous orthodoxy and popular faith in European society. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Biematzki, W. E., L. J. Ira, and A. K. Mita. 1975. Korean Catholicism in the 7Os. Maryknoll, NY: Orbis Books.
Chang, Y. 1982. Shamanism as folk existentialism. In Religions in Korea: Beliefs and cultural values, edited by E. H. Philips and E. Yu, 25-41. Los Angeles: Centre for American-Korean and Korean Studies, California State University.
Ching, J. 1977. Confucianism and Christianity: A comparative study. New York: Kodansha International
Christian Academy. 1986. The content of sermons and its relation to church growth. In Gahyuk shillhakgwa sulgyo yungu (A study of the reform theology and sermons), edited by Christian Academy. Seoul: Gukje Shinhak Yunguso.
Christian Institute for the Study of Justice and Development. 1982. Hanguk Gyohoe l00nyun Jonghap Yungu (A study of 100 years of Korean Christianity). Seoul: Hanguk Gidokgyo Sahoemunje Yunguwon.
Christian Yearbook of Korea. 1993. The Christian yearbook of Koreo. Seoul: The Christian Literature Press.
Chung, J. 1977. Koreans’ concept of blessing. The Christian Thought 21:1
Clark, A. D. 1971. A history of the church in Korea. Seoul: Christian Literature Society of Korea.
Grayson, J. H. 1985. Early Buddhism and Christianity in Korea. Leiden, Netherlands: E. J. Brill.
Hefner, R. W., ed. 1993. Conversion to Christianity: Historical and anthropological perspectives on a great transformation. Berkeley: University of Califomia Press.
The Holy Bible (New International Version). 1989. International Bible Society. Seoul: Korean Bible Society.
Hong, H. S. 1983. Social, political, and psychological aspects of church growth. In Korean Church growth explosion, edited by B. Ro and M. Nelson. Seoul: Word of Life Press.
Horton, R. 1971. African conversion. Africa 61(2): 91-112.
Jo, H. 1983. Hangukui Mu (Shamanism of Korea). Seoul: Jungeumsa.
Jung, S. 1986. Hanguk Gyohoe Sulgyosa (A history of preaching in Korean Church). Seoul: Chongshin Daehak Press.
Kang, W. J. 1997. Christ and Caesar in modero Korea: A history of Christianity and politics. Albany: State University of New York Press.
Kim, C., ed. 1945. The culture of Korea. Honolulu: Korean American Cultural Association.
Kim, D. 1981. Cho Yonggi Geuneun Gwayun Idaninga (Is Yonggi Cho heresy?). Seoul: Hanguk Gwanggo Gaebalwon.
Kim, D. 1983. Hangukgyohoe Sulgyoe Natanan Guyaksungsue Gwanhan Yungu (A study of the sermons of the Korean Church: Their interpretation of the Old Testament). Unpublished M. A. Thesis. Hanshin Theological College.
Kim, J., J. Jung, and H. Jung. 1982. Hanguk Gyohoe Sungjanggwa Shinang Yangtaee Gwatihatt Josayungu (A study of the Korean Church growth and faith). Seoul: Hyundae Sahoe Yunguso.
Kirn, S. 1983. Hanguk Miruk Shinang ui Yongu (Study of Miruk faith in Korea). Seoul: Donghwa Pub.
Ko, E., ed. 1982. Saeropge Hasosuh (Please make it new), vol. 1. Seoul: Hongsungsa.
Ko, E. 1988. Saeropge Hasosuh (Please make h new), vol. 2. Seoul: Hongsungsa.
Ko, I. 1987. Hanguk ui Bulgyo (Buddhism in Korea). Seoul: Dongkuk University Press.
Korea Gallup Polls. 1984. Hangukinui Jonggyowa Jonggyouishik (Religion and religious consciousness of Koreans). Seoul: Hanguk Gallup Josayunguso.
Korea Gallup Polls. 1989. Haiigukinui Jonggyowa Jonggyouishik (Religion and religious consciousness of Koreans). Seoul: Hanguk Gallup Josayunguso.
Lee, J. 1977. Hankuk Kyohoeui Ojewa Oneul (Korean Church past and present). Seoul: Taehan Kidokkyo Choolpansa.
Lee, W. G. 1994. Hanguk Gyohoeui Hyunshilgwa Jungmang (The reality and prospect of the Korean Church). Seoul: Sungsuyungusa.
Min, G. 1982. Hankuk Kidokkyohoesa (A history of the Christianity in Korea). Seoul: Tachan Kidokkyo Choolpansa.
Moffett, S. H. 1962. The Christians of Korea. New York: Friendship Press.
Moon, S. 1975. Hangukui Shamanism (Korean shamanaism). In Jonggyoran Muutinga, edited by S. Moon, 123-190. Seoul: Bundochulpansa.
Moon, S. 1982. Shamanism in Korea. In Korean thought, edited by S. Chun, 17-35. Seoul: The Sisayongosa Pub.
Paik, G. L. G. 1971. The history of Protestant mission in Korea, 1832-1910. 2nd ed. Seoul: Yonsei University Press.
Park, B. 1966. Christianity and the ideological aspects of the Korean family. In Korea struggles for Christ: Memorial Symposium for the Eightieth Anniversary of Protestantism in Korea, edited by H. Hong, W. Ji, and C. Kim, 212-229. Seoul: Christian Literature Society of Korea.
Park, S. 1982. Hanguk Gyohoe Sungjange Gwanhan Yungu (A study of the growth of the Korean Church). Unpublished M. A. Thesis. Department of Education, Yonsei University.
Ro, B., and M. L. Nelson, eds. 1983. Korean church growth expiosion. Seoul: Word of Life Press.
Ryu, D. 1965. Hanguk Jongkyo wa Kidoikyo (The Christian faith encounters the religion of Korea). Seoul: Christian Literature Society.
Ryu, S. 1987. Gidokgyo Yehaewa Yugyojesa (The Christian service and the Confucian tire.). Seoul: Yangsuhgak.
Saunders, G. R., ed. 1988. Culture and Christianity: The dialectics of transformation. Westport, CT: Greenwood Press.
Scott, R. 1920. Warring mentalities in the Far East. Asia 20.
Skorupski, J. 1976. Symbol and theory: A philosophical study of theories of religion in social anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Snow, D. A., and R. Machalek. 1984. The sociology of conversion. Annual Review of Sociology 10: 167-90.
Tak, M. 1971. Therapeutic phenomena of new religions. Korea Journal 11 (12): 27-30.
Yun, S. 1964. Kidokkyo wa Hanguk Sasang (Christianity and Korean thought). Seoul: Christian Literature Society.
[1] Протестантизм в Южной Корее начал быстро расти только с 1960-х годов по двум основным причинам: во-первых, из-за японского колониального правления (1910–1945), в период которого христианство подвергалось жестоким преследованиям со стороны японских властей; во-вторых, из-за Корейской войны (1950–1953), которая опустошила страну и унесла миллионы жизней. Рост протестантизма с 1960-х годов совпал с экономическим развитием страны и быстрой урбанизацией. Острое чувство отчаяния и отчуждения, вызванное непрекращающимися социальными и национальными бедствиями — японским колониальным правлением, Корейской войной и крайней нищетой, а также аномия, возникшая в результате быстрой индустриализации и урбанизации, создали психологический импульс для значительной части корейского населения искать утешение в христианской вере. Церкви, в свою очередь, служили благотворительными организациями и местами, где перемещенные лица, включая миллионы беженцев из Северной Кореи, могли обрести идентичность, утешение и общение.
[2] Однако следует отметить, что основная цель данного исследования — изучить базовые религиозные ценности, заложенные в уникальной корейской психокультурной динамике, а не пытаться дать всесторонний обзор традиционных религий Кореи. Практически все корейцы, принявшие протестантское христианство, не переходили из другой религии и не имели связи с какой-либо религиозной организацией до обращения в протестантизм. Тем не менее, они были глубоко проникнуты традиционными религиозными ценностями: в духовном плане шаманистская система ценностей пронизывала практически все аспекты их сознания; а в социальном плане квазирелигиозное конфуцианство регулировало почти все аспекты социального взаимодействия и межличностных отношений. Многие корейцы все же изменили свою приверженность в пользу новой религии, потому что её освобождающее евангелие — освобождение от бедности, неравенства, небезопасности или гендерной дискриминации — чрезвычайно привлекало устремления обездоленных корейцев. Роль церкви как агента демократизации и модернизации в стране также стала дополнительным стимулом для принятия христианства среди большого числа корейцев, ориентированных на современность.
[3] В статье цитируются библейские отрывки для подкрепления аргументов. Цитирование этих библейских отрывков основано на наблюдениях автора как регулярного прихожанина церкви, интервью с пасторами и ведущими специалистами в области корейского христианства и изучении литературы о проповедях ведущих протестантских церквей Южной Кореи.
[4] Тенденция к мирскому была настолько распространена, что даже названия корейских церквей содержали термины, традиционно связанные с заметными материальными желаниями, такими как изобилие (например, «Церковь изобилия»), благословение (например, «Церковь благословенных»), счастье и надежда.
[5] Более поздний опрос, проведенный институтом Korea Gallup Polls в 1989 году, дал схожие результаты: 52,2 % протестантских респондентов (N = 383) согласились с тем, что рай находится не в ином мире, а в этом.
[6] Корейские священнослужители хвастались замечательными экономическими успехами Южной Кореи за последние три десятилетия, считая их свидетельством Божьего благословения.
[7] Эта тема национальной христианизации породила среди корейских христиан тенденцию воспринимать Корею как избранную нацию, «новый Израиль». Отражая это распространённое убеждение, Харольд Хонг (1983: 181) писал: «Мы твёрдо верим, что теперь мы — избранный народ Божий и находимся под особым покровительством Бога. Эта сильная вера фактически сделала корейскую церковь самой быстрорастущей церковью в мире». Как продолжение этой веры, некоторые корейские христиане даже стали писать традиционное название Кореи на английском как «Chosen» [Избранная], вместо общепринятого «Choson».
[8] Являясь политеистической религией, корейский шаманизм поклоняется большому количеству духов, но верховным богом в его пантеоне является Хананим. В корейском шаманизме считается, что Хананим управляет вселенной и контролирует жизни людей через силы, вверенные меньшим богам, ранжированным в соответствии с их функциями (Jo 1983: 94-103). После Хананим по рангу и силе идут другие небесные боги, включая солнце, луну и звезды. Далее идут боги земли, реки и горы, в то время как духи подземного мира занимают низшее положение.
[9] Даже в буддийском понимании Бога, которое является основой религиозных ценностей корейцев, представление о Боге как спасителе занимает видное место (S. Kim 1983; см. также Ко 1987). На уровне народного понимания и практики корейский буддизм параллелен христианству в проецировании сострадания и силы Будды в облегчении человеческих страданий и ответе на молитвы людей.
[10] Вдохновленные историями исцелений в Библии, корейские священнослужители чаще всего использовали три метода для лечения болезней: молитву (Иакова 5:15), возложение рук (Мк. 6:5, 16:18; Лк. 4:40) и освященную воду (Ин. 7:37-38) (Tak 1971). Другой популярный метод исцеления включает в себя сочетание молитвы и поста, которое обычно применялось пасторами или возрожденцами, которые сами были исцелены от болезней с помощью той же процедуры.
[11] Следует также отметить, что обряды исцеления не ограничивались воскресными службами. Многие церкви Южной Кореи содержали собственные молитвенные центры (кидовоны), где практики исцеления верой проводились на регулярной основе. Кроме того, существовало множество независимых молитвенных центров, предлагавших услуги исцеления для физически и душевнобольных. По состоянию на 1989 год общее количество таких кидовонов превышало 500.
[12] Другим примером совпадения ролей рукоположенных пасторов и шаманов был тот факт, что корейские пасторы проводили множество церемоний, которые были аналогичны церемониям шаманов, например, председательствовали на панихиде по умершим родителям в христианских домах или освящали службу по проблемному бизнесу, недавно построенному дому или недавно основанному бизнесу.