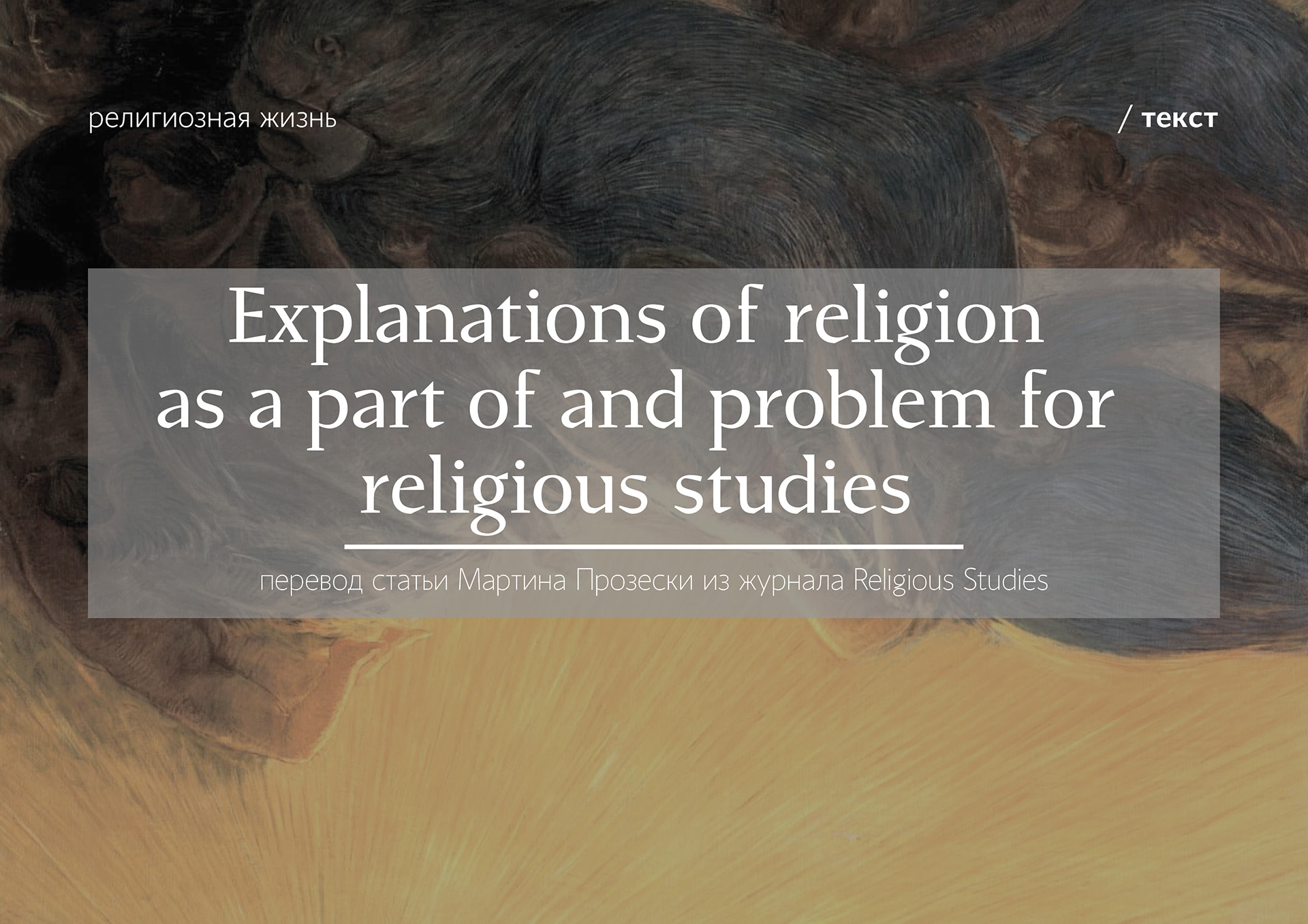В данном контексте слово «объяснение» понимается как определение факторов, которые раскрывают нам причины существования и/или функционирования того или иного явления. В этой работе я преследую три цели: во-первых, утверждать, что объяснение в вышеуказанном смысле является высшей целью, на которую должно быть направлено академическое изучение религии; во-вторых, предложить то, что я считаю наиболее освещающим методом объяснения в этом контексте; и в-третьих, рассмотреть определенные проблемы, которые возникают из-за применения этого метода в современных религиоведческих исследованиях. Таким образом, это эссе выступает в качестве комментария и защиты центрального методологического подхода, представленного в моей книге «Religion and Ultimate Well-Being: An Explanatory Theory» (1984), хотя оно также может рассматриваться и независимо от нее.
I. Императив объяснения
Для того чтобы показать, почему я рассматриваю объяснение как вершину достижения в академическом изучении религии, прежде всего необходимо более внимательно рассмотреть природу объяснения. Так, следует отметить, что потенциальный объясняющий, как правило, имеет дело с вопросами «почему», а не с вопросами «что» или «как». Последние порождают описательные, аналитические, интерпретационные и сравнительные характеристики религиозных явлений. Они могут, таким образом, рассматриваться как важные подготовительные этапы для работы по объяснению этих феноменов, где внимание смещается от их природы к тому, что по-разному называется их причинами, составляющими факторами или их необходимыми и достаточными условиями. Как выразился один влиятельный теоретик, объяснение религии — это «спецификация тех условий, без которых она не могла бы существовать» (Спиро, 1966: 118). Знание этих условий позволяет указать, почему религии Земли существуют как феномен и почему они обладают определенными типичными характеристиками, функциями и различиями между собой. Таким же образом это знание дает возможность формулировать точные прогнозы об общих тенденциях дальнейшего развития религий, а также (при желании) предлагать и осуществлять эффективные изменения в сфере реальной религиозной практики и убеждений. На самом деле можно утверждать, что лучшей проверкой предполагаемого объяснения религии является степень, в которой оно способствует творческим преобразованиям в религиозной сфере через успешное выявление реально формирующих религию в определенных обстоятельствах сил.
Очевидно, что вышеприведенные замечания указывают на амбициозный поиск максимального понимания религиозных феноменов, и именно поэтому мне кажется, что религиоведение (или как бы мы ни называли академическое изучение религии) должно в конечном итоге давать объяснения своего предмета. Все меньшее оставит без ответа некоторые законные вопросы, а именно целый ряд вопросов «почему». Конечно, мало кто будет оспаривать принцип, лежащий в основе этого пункта, а именно: академическое изучение любого предмета влечет за собой обязательство стремиться к максимально полному пониманию своей области. Это означает, что нужно исследовать каждый возникающий вопрос, пока на него не будет получен ответ или не будет доказано, что он либо бессмыслен, либо неразрешим. Я утверждаю, что такие вопросы, как «почему многие люди религиозны?» или «почему религии включают в себя ритуалы?» не были признаны бессмысленными или безответными. Поэтому не только правомерно заниматься ими до тех пор, пока на них не будет получен удовлетворительный ответ или пока всем рациональным исследователям не станет ясно, что на них (пока) невозможно ответить; это академически необходимо, чтобы наша дисциплина не была справедливо обвинена в самоограниченном обскурантизме. Такое обвинение неприемлемо ни для одного ученого.
Итак, мой первый тезис в этом эссе можно обобщить следующим образом: у академических исследований нет иного выбора, кроме как максимизировать наше понимание; объяснение является неотъемлемой и заключающей частью поиска максимального понимания и не было доказано, что оно неуместно в религиоведении; поэтому у религиоведения нет иного выбора, кроме как искать объяснение своего предмета, тем самым предоставляя возможность трансформировать его, если того пожелают некоторые люди.
II. Наиболее перспективный метод объяснения религиозных феноменов
Теперь мы переходим к методологическим соображениям, цель которых — изложить предпочтительную стратегию объяснения, основываясь на её способности отвечать на самые обширные и фундаментальные вопросы о причинах религии. Мое предложение состоит в том, что модифицированная форма того, что можно назвать мягким номологическим или охватывающим объяснением, дополненная до уровня систематической общей теории, предлагает нам наиболее плодотворный метод объяснения феномена религии на земле. Вот детали этого предложения.
Думаю, мы все согласимся с тем, что объяснение, которое в принципе обеспечит максимальное понимание, будет таким, которое охватывает все явление в целом, в отличие от частичных или фрагментарных объяснений, и которое объясняет фундаментальные или существенные свойства рассматриваемого явления, в отличие от вторичных или случайных свойств. Таким образом, поиск объяснения религии в конечном счете будет поиском того, что можно представить как выявление факторов, определяющих фундаментальные свойства всех религий. Это, конечно, предполагает, что мы в состоянии сказать, каковы эти общие, фундаментальные свойства, что само по себе связано с определёнными трудностями, которые я обсужу в третьей части этой работы. Однако существуют основания полагать, что мы можем идентифицировать наш предмет исследования таким образом. Как еще мы могли бы демаркировать нашу область исследования, если не с помощью какого-то ощущения, пусть интуитивного или общего, что религия отличается от других человеческих интересов? На практике мы все ведем себя так, как будто знаем, как ее отличить. Но это, в свою очередь, подразумевает, что мы можем, если потребуется, с приемлемой точностью сказать, что такое религия; а это, как я утверждаю, как раз и есть способность указать то, что я ранее назвал фундаментальными свойствами всех религий. Соответственно, если мы считаем, что знаем, чем обычно является религия, мы можем перейти к вопросу о том, почему она существует. Другими словами, сама наша деятельность в качестве религиоведов подразумевает, что мы можем надежно и обоснованно обозначить набор явлений, которым мы присваиваем общий термин «религия» или его эквивалент.
Лучшее объяснение должно, помимо прочего, охватывать основные религиозные явления в целом, какими бы мы их ни считали. Следовательно, потенциальный объяснитель должен искать наиболее всеобъемлющее объяснение, которое только может быть получено. Но хотя это требование и является важным, оно далеко не единственное, что стоит учитывать. Давайте обратим внимание на следующее, а именно на важность соотнесения методов объяснения с материалом, подлежащим объяснению, известным в технике как экспликант (explicandum). Следствием этого правила является то, что наши объяснения соответствуют реалиям нашего предмета. Здесь ученый очень сильно зависит от адекватных описательных обобщений, моделирования и интерпретации религиозных данных, и в частности от признания того, что обширное и богатое поле религиозных феноменов во всем мире демонстрирует определенные паттерны и повторяющиеся структуры, с одной стороны, и определенные различия с другой, и что религии также имеют собственную историю. Это не неизменные блоки психического гранита, а текучие, органические совокупности, которые меняются во времени и пространстве. Такое восприятие сходства, различия и временной изменчивости означает, что адекватное объяснение религии должно выявлять факторы, вызывающие это сходство, различие и историчность. Если мы объединим это с предыдущим методологическим правилом о всесторонности, то обнаружим, что адекватное объяснение религии должно не только показать, почему набор религиозных явлений демонстрирует определенные повторяющиеся или общие свойства, но и почему он дополнительно демонстрирует переменные: почему приверженцы А и Б, разделяя убежденность в существовании трансцендентного, невидимого мира, расходятся в своих рассказах о природе этого мира или о том, что люди должны делать, чтобы пользоваться его благами. Используя биологическую терминологию, то обоснованное объяснение должно раскрыть, почему существует род (религия), почему он так поразительно видоспецифичен (религии) и почему эти виды эволюционируют.
Появление слова «почему» в предыдущем предложении должно напомнить нам, что рассматриваемое здесь объяснение является каузальным. Это поднимает следующий требующий рассмотрения вопрос, а именно: какого рода причина будет достаточной для объяснения рассматриваемых данных? Очевидно, что предполагаемая причина должна отличаться от следствия, иначе мы окажемся в ловушке кругового объяснения. И она должна быть способна произвести тот религиозный эффект, который мы пытаемся объяснить, а это значит, что мы логически вправе называть в качестве причин религии только те факторы, которые обладают соответствующим динамизмом, достаточно мощным, чтобы быть в состоянии породить эффекты с масштабом и устойчивостью религиозных явлений. Более того, теоретики сходятся во мнении, что при прочих равных условиях следует предпочесть объяснение, которое включает наименьшее количество причинных факторов. Соображения, приведенные в этом параграфе, сводятся к попытке выяснить, можно ли соотнести религиозные явления на причинно-следственной основе с базовыми, глубоко укоренившимися характеристиками людей и их космоса (в смысле окружающего их внешнего мира, какова бы ни была его природа). Существуют ли мощные, фундаментальные, всепроникающие свойства человека и факторы окружающей среды (в самом широком и наименее теоретически нагруженном смысле), благодаря которым в данных обстоятельствах люди будут демонстрировать типичные, общие религиозные формы поведения и верования, а также их вариации и эволюции? Если да, то, выявив их, мы сделаем большой шаг к объяснению религии с помощью метода, известного как объяснение через закон или номологическое объяснение». (Hempel: 33iff; Nagel.) Здесь объясняемая проблема подводится под закон или единую закономерность природы или человеческого поведения, так что при определенных условиях или начальных обстоятельствах действие этого закона приводит к формированию или функционированию объясняемого явления.
Существует строгая форма этого метода, согласно которой законы природы являются неизменными и что успешное объяснение, таким образом, принимает логическую форму дедукции объяснения из одного или нескольких таких законов, действующих в определенных начальных условиях. (Прозески: 70). Кроме того, существует мягкая форма этой процедуры. Хотя она также опирается и на охватывающие законы для наиболее строгого вида каузального объяснения, что квалифицирует ее как номологическую — она предполагает другой взгляд на логический статус законов, которые не считаются установленными, инвариантными закономерностями, а рассматриваются как индуктивные обобщения высокой степени вероятности, действие которых делает указанные последствия весьма вероятными, но не неизбежными.
Из этих замечаний становится ясно, что номологические объяснения предлагают особенно строгий и всеобъемлющий способ каузального объяснения, поскольку их логическая форма соответствует самому строгому виду умозаключений, доступных нам: если не дедуктивной достоверности, то, по крайней мере, наиболее вероятным индуктивным умозаключениям. Из этого следует, что стремление к максимально полному пониманию религии должно изучить возможность разработки объяснения, основанного на таких номологических принципах. С другой стороны, столь же очевидно, что вся стратегия зависит от существования законов природы и человеческого поведения, управляющих религией, но существуют ли они? Если да, то было бы справедливо сказать, что они пока не выявлены. Однако это скорее практическая трудность, чем принципиальный барьер для поиска номологических объяснений религиозных данных, что в принципе оставляет открытым путь для поиска законов природы и человеческого поведения, под которые эти данные могли бы быть каузально подведены. Я предлагаю вести поиск с максимальной настойчивостью и отказываться от него только в том случае, если станет очевидно, что он явно непродуктивен. Лично я сомневаюсь, что в религиоведении мы должны рассчитывать на обнаружение таких охватывающие законов, которые интересуют сторонников дедуктивного или строгого номологического объяснения. Поскольку этот метод подвергается нападкам даже в естественных науках, призывать к нему в гуманитарных кажется чрезмерно амбициозным. Поэтому я предлагаю искать объяснение религии на основе того, что я называю мягким номологическим объяснением, предлагая и тщательно тестируя такие общие закономерности человеческого поведения и космоса, которые, по нашему мнению, могли бы быть причинами религии на Земле. Я прекрасно понимаю, что это путь, с которого нам, возможно, придется свернуть после тщательного исследования; моя точка зрения заключается не в том, что он обязательно приведет нас к объяснению религии, а в том, что мы обязаны попробовать его как можно более полно в нашем стремлении к пониманию, потому что теоретически он обеспечит нас наиболее полным объяснением изучаемого предмета.
Если мы вспомним методологические соображения второй части эссе этого, то станет ясно, что мое предложение до сих пор было несколько сложным и не полностью согласованным. Мало кто из нас удовлетворится простым набором объяснительных принципов. Мы хотим, чтобы этот набор был систематизирован в нечто последовательное и логичное. Таким образом, объяснительный поиск переходит в свою высшую стадию — систематическую, общую теорию, состоящую в основном из следующих компонентов: одной или несколько всепроникающих, фундаментальных закономерностей человеческой природы и космоса в целом, такой силы и вида, что они заставляют людей проявлять те постоянные или повторяющиеся свойства, которые мы можем обнаружить в религиях Земли (например, повсеместную озабоченность спасением, благословением, просветлением и избавлением); плюс определение исторических и культурных обстоятельств, при которых эти закономерности вызывают религиозные эффекты, плюс определение факторов, ответственных за различные уровни дифференциации религии, какими бы они ни были. Разумеется, каждый указанный причинный фактор должен действительно существовать, ведь мы вряд ли сможем объяснить религиозные факты с помощью вымышленных конструкций, созданных учеными. Кроме того, полученная теория должна отвечать обычным формальным критериям ясности, последовательности, экономичности и отсутствия циркулярности (Прозески: 96). Наконец, она должна быть подвергнута строгой проверке на предмет ее способности объяснить без специальных гипотез согласованные факты самой религии и ее превосходства над альтернативными объяснительными теориями (Поппер, 203).
III. Возникающие проблемы
Предложенное выше решение связано с рядом трудностей, из которых я выбрал три для отдельного обсуждения. Одна из них уже упоминалась — это вопрос определения границ исследуемого явления (explicandum).
Как мы можем определить, что такое религия, прежде чем пытаться сказать, почему она существует? Мы все знаем, насколько трудным был поиск согласованного, нетривиального определения религии до сих пор, и хотя у всех нас есть свои идеи на этот счет и мы, по сути, уже подразумеваем способность очерчивать предмет, просто сосредотачиваясь на определенных феноменах, достаточно ли этого для строгого научного подхода? И если в сборе данных, которые мы хотим объяснить, присутствует определенная субъективность и неустойчивость, не повредит ли это нашим объяснениям или даже не испортит их? Эти вопросы представляют собой реальные проблемы, и два основных метода, используемых для демаркации области религии, также имеют внутренние трудности. С одной стороны, мы могли бы действовать условно, установив предпочтительное определение того, чем, по нашему мнению, является религия, а затем сосредоточить свои исследования только на таких явлениях, которые соответствуют этому определению. Но является ли такой подход достаточно эмпиричным и объективным? Не приведет ли это рано или поздно к своего рода классификационному империализму, навязывающему данным личную концепцию религии? Это может быть интересным для философских рассуждений, но вызывает сомнения с точки зрения научной адекватности. С другой стороны, мы могли бы действовать репортивно и считать религиозным все, что называет себя таким, или все, что принято считать таковым в рамках общепринятого употребления. Но и это слишком сильно зависит от культурной случайности, чтобы быть научно обоснованным. Вещи могут называться религиями по весьма шатким причинам, например, из-за непонимания посторонних. В качестве примера подобной ситуации можно привести дзен-буддизм.
Мое собственное предложение несколько витгенштейновское по своей природе и включает в себя то, что он называл семейным сходством. Это означает, что мы должны непредвзято подходить к вопросу о том, какие явления следует классифицировать как религиозные, отдавая предпочтение широкому, а не узкому или исключительному значению, а затем позволить данным выстроиться в свои собственные модели или сходства (если они есть) на основе эмпирического исследования. Постепенно может возникнуть заметное “семейство” явлений, отмеченных взаимным сходством, например, использованием мифологии, ритуалов, веры в невидимый мир духов и так далее. Затем исследователь рассматривает как религиозные только те явления, которые обладают необходимым семейным сходством, и направляет поиск объяснения на них, проявляя пропорционально меньший интерес к пограничным случаям. Возможно, такой подход позволяет в приемлемой степени уменьшить проблемы обуловленной и отчетливой демаркации.
Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть, связана с источником объяснителя или совокупности каузальных факторов. В своей методологической дискуссии я указал, что нециркулярное объяснение должно использовать объяснитель (explicans), отличный от объясняемого явления (explicandum). Но если объясняемое явление представляет собой всю совокупность религиозных явлений, то любые обоснованные причинные факторы, которые могут быть предложены, должны быть шире, чем просто сама религия. Возникающая здесь проблема носит практический характер: поиск объяснителя в принципе может охватить все аспекты человеческого существования в космосе, а кто из нас достаточно эрудирован, чтобы уверенно справиться с этим? Таким образом, наша дисциплина оказывается перед дилеммой: чтобы быть полностью академической, она должна заниматься деятельностью, в которой большинство из нас — дилетанты, что сведет к минимуму наши перспективы обнаружения объяснительных факторов, управляющих нашими религиями. Хотя я не вижу простого или идеального решения этой проблемы, мне кажется, что ее можно смягчить с помощью ряда мер, таких как целенаправленное развитие крупномасштабных междисциплинарных центров религиоведения, учебные программы максимальным включением социальных и естественных наук, разработка компьютерных баз данных и, не в последнюю очередь, готовность смело и с творчески исследовать неизвестность в поисках объяснения религии, даже если это приведет к ошибкам. Я подозреваю, что для объяснения религии потребуется столько же проб и ошибок, сколько и для любого другого предмета, но мы не должны позволить этому нас отпугнуть, потому что прогресс возможен только таким образом. Возможно, нам поможет переосмысление наших представлений о том, что считается ценным или успешным результатом работы в нашей области.
Последняя проблема, которую я хочу рассмотреть, касается некоторых, казалось бы, неизбежных нормативных следствий в любом адекватном объяснении религиозных феноменов. Не будет ли такое объяснение иметь тенденцию подтверждать или опровергать истинность фундаментальных религиозных утверждений о природе реальности? И если да, не будет ли объяснение религии способствовать или даже прямо порождать оценочный или критический подход к религиозным утверждениям? Однако многие ученые считают, что подобные нормативные суждения или суждения более высокого порядка вообще не входят в сферу академического религиоведения (см. Шарп, стр. 251 и далее).
Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль. Предположим, окажется, что натуралистическая теория предоставляет нам лучшее объяснение общепринятых фактов о религии, чем любая возможная сверхъестественная теория или даже чем существующая сверхъестественная теория. Разве это не будет свидетельствовать против вероятной истинности последних? То же самое можно было бы сказать, если бы ситуация была обратной и вероятность истинности натурализма уменьшилась. Но выносить вердикты об истинности и ложности, какими бы осторожными они ни были, значит вступать на арену нормативного, а значит, влиять на решения и политику, по крайней мере на личном уровне. Что же тогда остается от стремления к строгой академической беспристрастности? И здесь возникает дилемма: чтобы быть по-настоящему академичными, мы должны искать объяснение религии; но чем больше мы в этом преуспеваем, тем более нормативными и (как некоторые утверждают) менее академичными мы становимся. Для наглядной иллюстрации такой нормативности позвольте мне привести заключительную главу одной недавней впечатляющей работы по психологии религии: «Быть более религиозным не связано с большим психическим здоровьем и счастьем или с большим социальным состраданием и заботой. Совсем наоборот…» (Батсон и Вендс, стр. 306). Очевидно, что это утверждение носит нормативный характер.
Такова, вкратце, позиция в отношении нормативности. Но действительно ли это то, чему нужно сопротивляться или чего бояться? В конце концов, наша дисциплина — растущая, развивающаяся, и, возможно, страх перед нормативностью мы должны научиться преодолевать не для того, чтобы отступить от академических или научных стандартов, а для того, чтобы реализовать их более полно. Сопротивление поиску объяснений из-за страха перед их нормативными последствиями не повысит наш академический статус, напротив, я утверждаю, что это его уменьшит. А если это так, то нормативность следует рассматривать как проблему лишь в том смысле, что нам предстоит научиться многому в вопросах критических подходов к нашим религиозным утверждениям. Это не должно стать преградой для расширения академического изучения религии до объяснительных методов работы.
Таким образом, мы видим, что рассмотрение трех проблем, связанных с объяснением религии, выявляет как практические трудности, так и способы конструктивного ответа на них. Думаю, что справедливо заключить, что призыв к объяснительным исследованиям в области религиоведения как теоретически важен, так и осуществим. Обсуждаемые выше проблемы не делают предложенную концепцию непрактичной и не подрывают тех сильных положительных причин, которые были приведены в первой части этого эссе в поддержку исследований, направленных на поиск объяснений религии.
Факультет религиоведения
Университет Натала
Источники информации
- Batson, C. D. and Ventis, W. Larry. The Religious Experience. A Social-Psychological Perspective (New York: O.U.P., 1982).
- Hempel, Carl, Aspects of Scientific Explanation, and other Essays in the Philosophy of Science (New York: Free Press, 1970).
- Nagel, Ernest, The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation (London: Routledge & Kegan Paul, 1961).
- Popper, Karl, Objective Knowledge: an Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972).
- Prozesky, Martin, Religion and Ultimate Well-Being: An Explanatory Theory (London: Macmillan; New York: St Martin’s Press, 1984).
- Sharpe, Eric J. Comparative Religion. A History (London: Duckworth, 1975).
- Spiro, Melford, ‘Religion: Problems of Definition and Explanation’, in Ban ton, M. Anthropological Approaches to the Study of Religion (London: Tavistock, 1966)
Этот доклад был прочитан на конгрессе Международной ассоциации по истории религии в 1985 году в Сиднее, Австралия.
Prozesky M. Explanations of Religion as a Part of and Problem for Religious Studies //Religious studies. – 1988. – Т. 24. – №. 3. – С. 303-310.