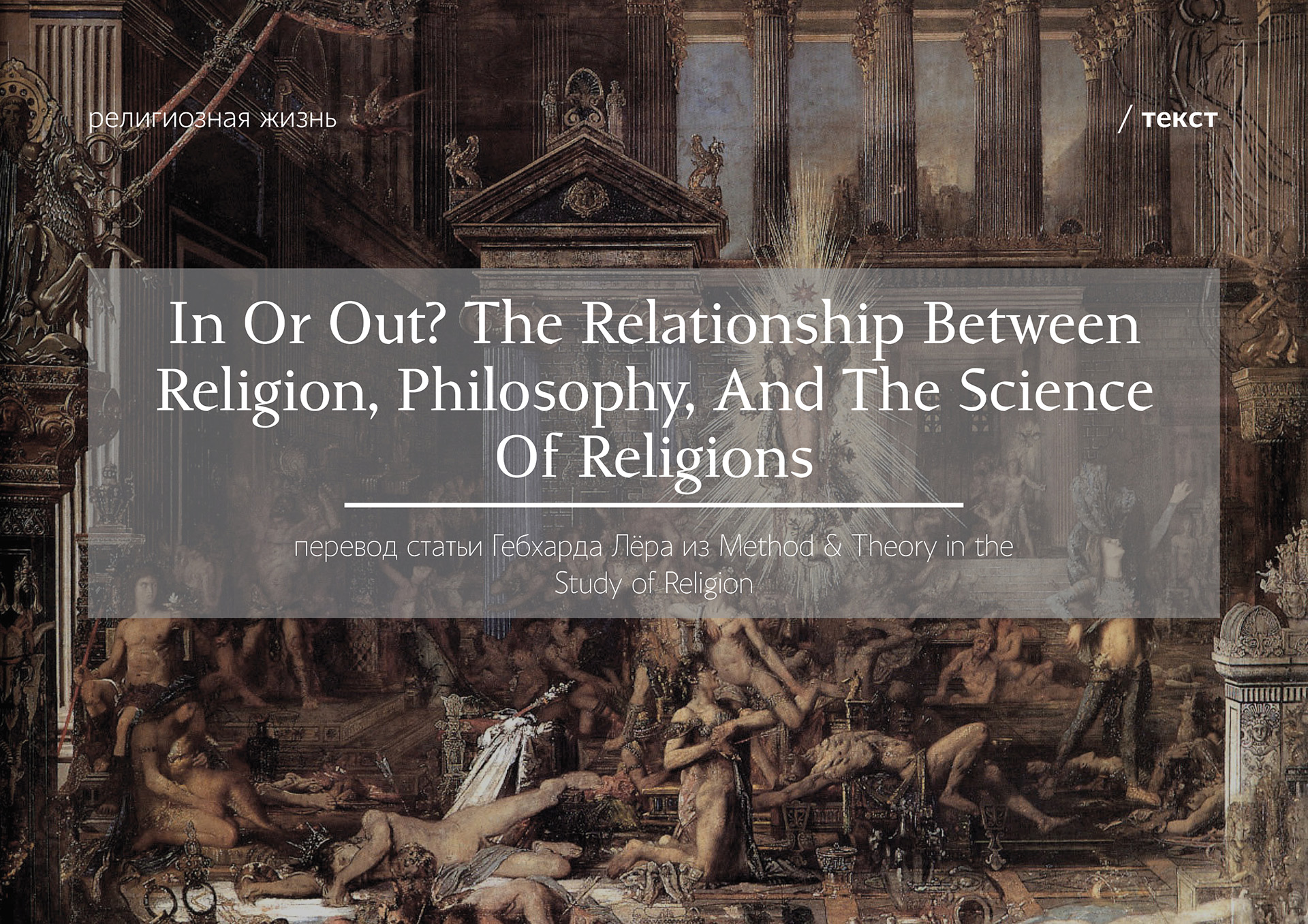Проблема взаимоотношений между философией и религией может рассматриваться как европоцентрическая или как возникшая в рамках западной культуры — в зависимости от того, какие представления о философии и религии принимаются за основу и как проводится различие между этими двумя понятиями. Тематика данной статьи, очевидно, предполагает некое различие между ними — различие, которое необязательно имеет место во всех культурах. Для того чтобы систематически подойти к поднятой здесь проблеме, необходимо предварительно дать общее определение обоих явлений. Предварительно под «философией» здесь понимается рефлексивная деятельность человека, использующего (или претендующего на использование) исключительно ресурсы человеческого мышления. Определение «религии», как известно каждому специалисту в данной области, является крайне затруднительным. Поэтому здесь не предпринимается попытка дать удовлетворительное определение или использовать одно из уже существующих. Для наших целей можно ограничиться следующим: предполагается, что религия в своей рефлексивной составляющей использует — в отличие от философии — предполагаемые или реальные сверхъестественные либо данные в откровении феномены или силы. Я прекрасно понимаю, что даже это открытое, предварительное определение является культурно-относительным и, возможно, философски спорным.
Эти предварительные определения предполагают, что философия может выполнять различные функции по отношению к религии. Она может сама принимать на себя религиозные функции или функции теологической рефлексии, стремясь установить религиозные истины с помощью аргументации, или же пропагандировать религиозные взгляды, делая их доступными для разумного осмысления. Философская рефлексия может выполнять задачу построения систематического мировоззрения или дополнять уже существующие религиозные формы мировоззрения, обеспечивая для них рациональное обоснование. В отношении религии философия также может выполнять важные социальные функции, например, представлять сокровенную мудрость религиозных традиций, делая отдельные её элементы доступными широкой публике, или, наоборот, скрывая другие в мистическом тумане (например, с помощью эзотерической терминологии). В некоторых традициях и в определённые исторические периоды философия и религия становились практически неотличимыми или сливались в единое целое как по идеям и концептам, так и по фигурам их представителей. В таких случаях религия становилась философской, а философия — по сути, религией (например, в среднем платонизме и неоплатонизме II–III веков н.э.). Исследователи некоторых направлений говорят о «философских сектах» (например, пифагорейцы или герметисты), так же как мы говорим о религиозных сектах; нам также известны культовые практики философов или тех, кто считал себя философами (например, общие молитвы и священные трапезы, завершающиеся братским поцелуем, у философских герметических орденов [Löhr 1997: 285–297]).
Однако даже в тех случаях, когда философия и религия различимы (в соответствии с приведёнными выше определениями), границы между ними не являются неизменными, но сильно варьируются. Понимание философии и религии, безусловно, будет различным, скажем, для Альберта Эйнштейна (который развил концепцию космической религии на основе физических исследований и метафизических идей о непрерывности и независимом существовании [Wilber 1985: 101–104]), нежели для проповедника-конгрегационалиста периода Первого великого пробуждения в Северной Америке 1740-х годов, или же методистского странствующего проповедника Второго пробуждения около 1800 года, который, возможно, выступал за замену философской, моральной проповеди религией и обращением сердца [Hudson и Corrigan 1992: 60–83]. Иными словами, определение соотношения между философией и религией зависит от культуры, эпохи, социальной среды и т.д.; не существует универсальной формулы, определяющей окончательные отношения между ними.
Нельзя забывать и того, что философия иногда играла ещё одну важную роль по отношению к религии: философия может использоваться — и действительно использовалась — как средство критики религии. Философская критика религии может быть направлена на религию или религиозность как таковую (например, разоблачая её как человеческую проекцию или средство подавления); против конкретной религии (в пользу другой, не признанной официально, или в защиту философского мировоззрения). Наконец, критика может быть направлена на религии других (например, других народов, рас, социальных слоёв) в пользу собственной [Löhr 1998: 1–21].
Для исследователя, изучающего религии с помощью различных методов (социологических, феноменологических, психологических и т.п.), философия в этих случаях относится к уровню религиозных объектов — к объектному уровню дисциплины. Однако философия может выполнять для учёного и иную роль, что значительно усложняет картину. Дело в том, что философия также используется для формирования теоретических рамок религиоведения; она предоставила теоретические инструменты для исследования и рефлексии о религии. Философские идеи и концепции оказали влияние на построение теорий религии, они частично или полностью определили понятийный аппарат, с помощью которого структурировано религиоведческое исследование. В этом качестве философия не выполняет нормативные функции религий или мировоззрений (даже если они философские), а, напротив, служит тому, чтобы поместить нормативные идеи в научную перспективу. В этой функции философия принадлежит не к уровню изучаемых религиозных объектов, а к теоретическому мета-уровню — к уровню теоретического осмысления и рефлексии. Сложность вопроса становится очевидной в тех случаях, когда теоретическая рефлексия, основанная на философских идеях, касается не только религиозных вопросов, но и таких, которые можно признать философскими (например, системы религиозной философии). В таких случаях философия оказывается по обе стороны «оврага».
Перейдём к философии религии. Ранее, в эпоху феноменологии религии или так называемой науки о религии, она в основном считалась частью религиоведения как такового; сегодня большинство религиоведов рассматривают ее через концепцию нормативности, сходной с христианской систематической теологией. Разумеется, философия религии может быть использована для защиты религиозных идей или теологических форм миропонимания, и на деле часто используется именно так. Однако, как уже говорилось, философию религии можно практиковать и понимать как ненормативную рефлексию, опирающуюся исключительно на рациональную аргументацию. Это, например, характерно для аналитической философии религии, хотя и она используется для обоснования позиций католического христианства, современного индуизма или буддизма тхеравады [Morris 1986; Mohanty 1988; Sharma 1995; см. также африканскую проблематику в Hallen and Sodipo 1997]. Однако в тех случаях, когда философия религии используется в неапологетическом и ненормативном ключе — например, в размышлениях о значении религиозного или теологического языка, или в анализе значений и употреблений таких понятий, как «Бог», «вера» или «молитва», — сотрудничество между религиоведением и философией религии возможно и оно может быть весьма плодотворным. Различие между этими дисциплинами не стирается даже при таком сотрудничестве, поскольку философия религии выполняет систематические и конструктивные задачи, тогда как религиоведение формулирует гипотезы, подлежащие проверке на основе эмпирической (исторической и/или социальной) реальности.
Следовательно, вопрос о принадлежности философии религии к науке о религии следует рассматривать более дифференцированно, чем это делается обычно. Несомненно, определённая часть философии религии является вкладом в научное изучение религии. Это способствовало бы улучшению сотрудничества между двумя дисциплинами, особенно если бы философы религии проявляли больший интерес к проблемам и понятиям в рамках незападных культур и религий. Я предполагаю, что сочетание западного, точнее европейского, философского метода — а именно концептуального анализа — с идеями и концептами незападных культур может дать особенно оригинальные и креативные результаты. Философия религии (в единственном числе) превратилась бы тем самым в философию религий (во множественном числе), тем самым способствуя формированию подлинно межкультурной философии. Некоторые интересные примеры применения аналитической философии к незападным религиозным идеям или концептуального анализа незападной (например, индуистской и буддийской) религиозной и философской терминологии можно найти в трудах таких учёных, как К. Н. Джаятиллеке (1963), Дж. Н. Моханти (1992), Арвинд Шарма (1995), Бимал Кришна Матилал (1986) и Матилал в соавторстве с Робертом Эвансом (1986).
Наконец, приведём пример из европейской истории религий XX века, иллюстрирующий ещё один важный аспект. В так называемом «парадоксе ЭПР» (названном по именам Эйнштейна, Подольского и Розена) описан мысленный эксперимент, целью которого было эмпирическое подтверждение ряда предпосылок: независимость существования частиц и их свойств, локальность частиц и возможность их независимого описания. Сами эти предпосылки были выведены из метафизических или онтологических взглядов Эйнштейна, например, из идеи о существовании реальности, независимой от наблюдения и описания, а также независимом существовании элементов этой реальности в пространственно-временном континууме. Примерно через пятьдесят лет эксперимент был реализован на практике А. Аспектом, Ж. Далибардом и Ж. Роже. Они продемонстрировали, что соответствующие теории были ошибочными. Одновременно это стало косвенным доказательством квантовой механики. Философ Виктор Мэнсфилд резюмировал: «метафизическая проблема была решена с помощью современного эксперимента». Метафизические взгляды Эйнштейна были тесно связаны с его религиозными убеждениями. Его метафизика служила своего рода кристаллизацией религиозных верований в виде общей и, в конечном счете, проверяемой гипотезы. Знамение возражение Эйнштейна против квантовой теории: «Бог не играет в кости» — было опровергнуто экспериментально.
Эксперимент Аспекта стал примером научной проверки и опровержения метафизической теории, основанной на религиозных взглядах. Эти результаты ставят под сомнение традиционное разграничение в религиоведении между нормативным уровнем объектов и ненормативным, «научным» уровнем теоретической рефлексии. Таким образом, возникает более сложная картина различных ролей и задач, которые выполняют религия, философия, философия религии и наука о религии. В нашем примере философия в форме метафизики служит для преобразования религиозных предположений о Боге в научно проверяемую гипотезу. Более того, на основе этих результатов, учёные-религиоведы и философы изучают вопрос о возможных аналогиях или параллелях между постэйнштейновской физикой и буддизмом: родство между квантовой теорией и онтологией мадхьямики-буддизма стало предметом обсуждения [Masefield 1989; Balasubramaniam 1992]. С точки зрения религиоведения все эти обсуждения и разработки не могут быть однозначно отнесены ни к уровню объекта, ни к уровню теоретической рефлексии.
Подводя итог, мы рассмотрели случаи, когда философия и религия принадлежат к уровню объектов исследования религии, и также случай, когда философия вносит вклад в теоретическую основу академического религиоведения, а значит — принадлежит к теоретическому или метатеоретическому уровню. Случай философии религии особенно интересен в той мере, в какой её обычно относят к уровню религиозных объектов, подлежащих изучению, хотя в некоторых случаях её вполне уместно считать элементом концептуального уровня религиоведческого анализа. Очевидно, философия может выполнять разные функции в отношении к религии. Поэтому философию не следует автоматически относить к уровню религиозных объектов, то есть к сфере нормативности. В определённых отношениях философия является союзником религиоведения в деле рационального анализа и понимания религии и религиозности [Berner 1997]. Следовательно, религиоведы всегда должны тщательно анализировать, какую функцию философия выполняет по отношению к религии в конкретном контексте, а также в рамках собственных исследовательских методов.
Грайфсвальдский университет, Германия
Источники информации
- Berner, Ulrich (1997). Religionswissenschaft und Religionsphilosophie. Zeitschrift für Religionswissenschaft 5: 149-178.
- Balasubramaniam, Arun (1992). Explaining strange parallels: The case of quantum mechanics and Madhyamika Buddhism. International Philosophical Quarterly 32: 205-223.
- Hallen, Barry and J. Olubi Sodipo (1997). Knowledge, Belief and Witchcraft. Analytic Experiments in African Philosophy. Standford: Stanford University Press.
- Hudson, Winthrop S. and John Corrigan (1992). Religion in America. An Historical Account of the Development of American Religious Life, 5th edition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
- Jayatilleke, K. N (1963). Early Buddhist Theory of Knowledge. London: Allen and Unwin.
- Löhr, Gebhard (1997). Verherlichung Gottes durch Philosophie. Der hermetische Traktat Il im Rahmen der antiken Philosophie- und Religionsgeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck. — (1998). Religionskritik in der griechischen und römischen Antike. Sacculum 49: 1-21.
- Mansfield, Victor (1989). Madhyamika Buddhism and Quantum Mechanics: Beginning a Dialogue. Intemational Philosophical Quarterly 29: 371-391.
- Matilal, Bimal Krishna (1986). Perception: An Essay in Classical Indian Theories of Knowledge. Oxford: Clarendon Press.
- Matilal, Bimal Krishna and Evans, Robert D. (1986). Buddhist Logic and Epistemology. Studies in the Buddhist Analysis of Inference and Language. Studies of Classical India, Vol. 7. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
- Mohanty, Jitendra Nath (1992). Reason and Tradition in Indian Thought. Oxford: Clarendon Press.
- Mohanty, Subodh Kumar (1988). The Concept of blik. Meerut.
- Morris, Thomas V. (1986). The Logic of God Incamate. Ithaca: Cornell University Press.
- Sharma, Arvind (1995). The Philosophy of Religion. A Buddhist Perspective. Delhi: Oxford University Press.
- Wilber, Ken (ed.) (1985). Quantum Questions. Mystical Writings of the World’s Great Physicists. Boston & London: Shambala.
Löhr Gebhard In Or Out? The Relationship Between Religion, Philosophy, And The Science Of Religions // Method & Theory in the Study of Religion, 1999, Vol. 11, No. 4 (1999), pp. 395-400