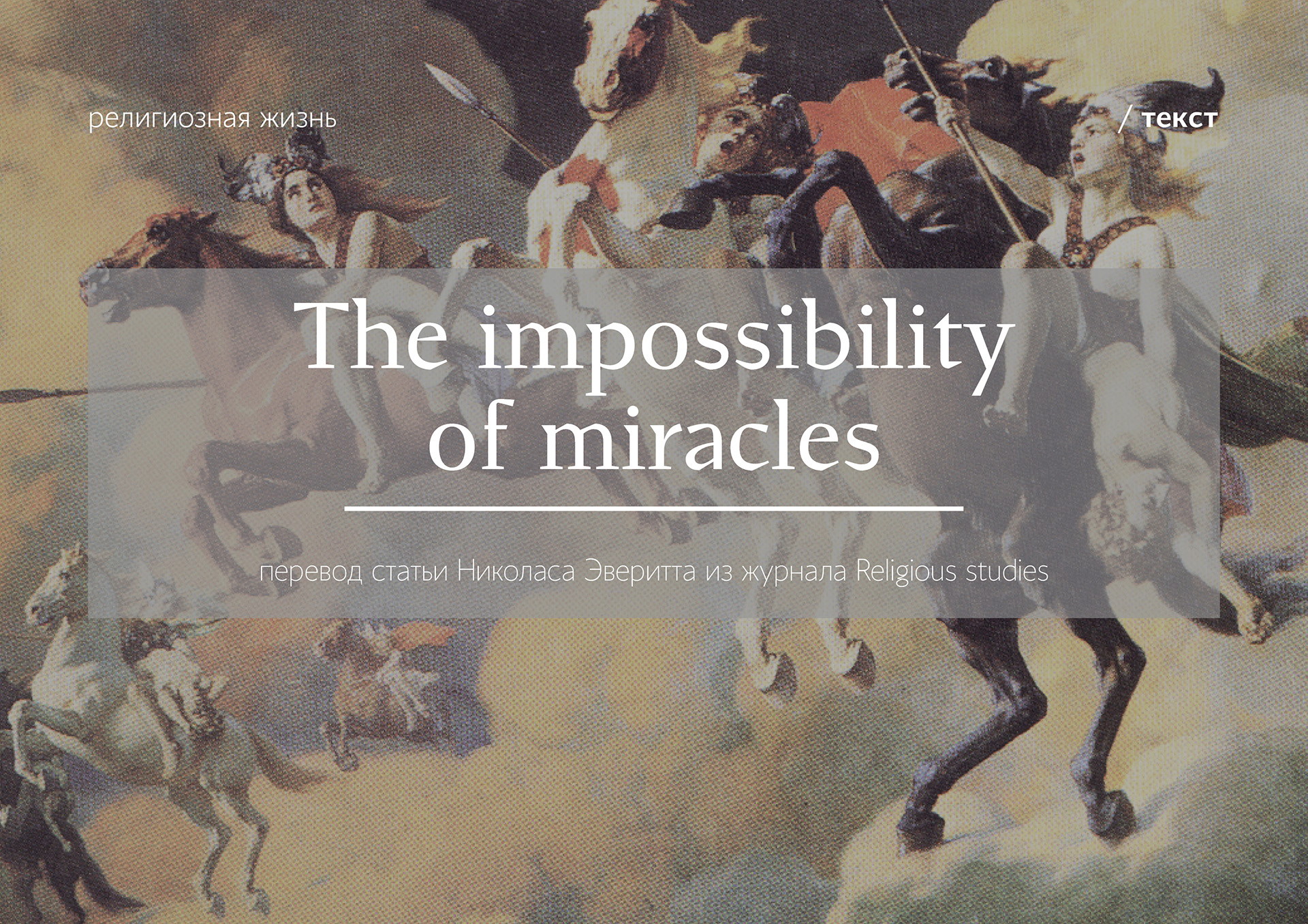Традиционные дискуссии о чудесах сосредоточены в основном на вопросе о том, насколько достоверны сообщения о чудесах, как в действительности, так и в принципе, и можно ли использовать их в качестве основы для теистической веры. Некоторые из тех, кто пытался истолковать эту проблему (например, Юм1 и Макки2) считают, что таким сообщениям нельзя доверять; другие считают, что чудеса происходят или, по крайней мере, могут происходить (Суинберн3, Дэвис4). Все стороны в этом споре исходят из того, что существует когерентная концепция чуда, относительно применения которой мы могли бы разумно поспорить. Хороший пример того, как это предположение явно выражено, можно найти в недавней книге Дэвиса. Дэвис неявно перенимает у Юма определение чуда как «нарушения закона природы по воле Божества»5 и, уточнив, что использует слово «невозможно» в смысле «логически невозможно», поясняет: «…трудно понять, что чудеса невозможны, если рассматривать их как нарушения законов природы… трудно понять, что есть какое-то противоречие в том, что они [чудеса] произошли. Где же здесь противоречие?»6.
Дэвис не пытается ответить на этот довольно банальный вопрос. Но есть все основания полагать, что традиционная концепция чуда, которую использует он и большинство других авторов, действительно непоследовательна7. Ведь то, что несовместимо с истинной, само по себе ложно. Следовательно, если согласно закону природы все А и Б являются истинными, то любое сообщение о чуде, в котором говорится, что существует А, которое не является Б, ложно. Таким образом, логически невозможно, чтобы любое утверждение о том, что чудо произошло, было истинным.
Можно ли обойти этот чрезвычайно простой аргумент? Мы можем попробовать представить себе ситуацию, в которой утверждение, подобное закону, не является истинным. Если это так, то, безусловно, возможно, что существует A, которое не является Б. Но тогда утверждение о том, что существует А, которое не является Б, не будет нарушать никакого закона природы и, следовательно, не будет свидетельствовать о чуде.
Вторая возможность заключается в том, чтобы по-другому взглянуть на законы природы. Предположим, что их форма не «Все А — это Б», а скорее «Все А — это Б, если только Бог не вмешается и не создаст А, которое не будет Б». Истинность такого утверждения, конечно, допускает существование A, которое не является Б (при условии, что оно создано Богом). Но такое явление не может считаться чудесным, поскольку оно не влечет за собой нарушения какого-либо закона природы. Появление A, которое является Б, очевидно, не нарушает закон природы, истолкованный таким образом; по смыслу рассуждений, не нарушило бы его и появление A, которое не было бы Б (при условии, что оно было произведено Богом). Для сравнения: черный австралийский лебедь не нарушает обобщение «Все лебеди белые, кроме черных австралийских».
Возможно, оно было сродни этой второй возможности, которую имел в виду Макки, защищая последовательность концепции чуда. Он писал: :
«…мы можем определить, что нечто является основным законом работы природных объектов, и в то же время, независимо от этого, обнаружить, что оно иногда нарушается. Случайное нарушение само по себе не обязательно отменяет независимо установленный вывод о том, что это закон работает»8.
Но Макки здесь просто ошибается. Если законы, о которых он думает, имеют форму «Все А есть Б», то не может существовать истинного утверждения вида «Существует А, которое не есть Б». Конечно, «Все A — это Б» может быть очень хорошим приближением к закону природы; и в этом случае действительно может существовать A, которое не является Б. Но появление A, которое не является Б, не будет тогда нарушением закона природы (а только приближением к нему) и, следовательно, не может быть чудесным. Если законы, о которых думает Макки, являются статистическими или вероятностными, то они, предположительно, имеют форму «Некоторая доля А равна Б». Это снова допускает, что утверждение «Существует A, которое не является Б» может быть истинным. Но по тем же соображениям, что и выше, оно не может быть сообщением о чуде.
Аналогичная путаница порождает обсуждение этого вопроса у Суинберна. Он утверждает:
«Сказать, что обобщение „все А — это Б“ является универсальным законом природы, значит сказать, что для А физически необходимо быть Б, а значит, любое А будет Б — без нарушений»9.
Затем он объясняет, что под «нарушением» он подразумевает «неповторяющееся исключение». Таким образом, закон природы, по мнению Суинберна, имеет вид «Все А — это Б, если нет неповторяющегося исключения». Предположим, что имеет место неповторяющееся исключение: существует A, которое не является Б, причем оно не принадлежит классу A*, такому, что верно, что все члены A* не являются Б. Каким образом такое положение является исключением из данного закона или его нарушением? Ответ заключается в том, что оно не является таковым. Оно было бы исключением из закона вида «Все А — Б». Таким образом, утверждение Суинберна обеспечивает возможную истинность таких утверждений, как «Существует А, которое не является Б», но только ценой того, что оно делает невозможным нарушение законов природы. Таким образом, оно не позволяет им быть подлинными чудесами.
Теист может попытаться обойти силу этого аргумента, исключив из своего определения «чуда» любую ссылку на нарушение законов природы10. Но если он сделает это, то такое определение сделает невозможным выполнение чудесами той функции, которую, как традиционно предполагали теисты, они могут выполнять, а именно — предоставление доказательств существования Бога. Если предполагаемое чудо не нарушает законов природы, оно объяснимо с точки зрения этих законов. В этом случае гипотеза о том, что чудесное событие было вызвано Богом, не требует объяснения. После того как естествоиспытатель проделал свою работу, не остается ничего необъяснимого, что требовало бы теистической гипотезы.
Итак, положение дел таково: чудо — это по определению то, что нарушает закон природы. Говорить, что какое-либо явление нарушает закон природы, означает, что утверждение о том, что такое явление имело место, несовместимо с утверждением о законах природы. Поскольку эти утверждения по определению истинны, то обязательно каждое такое утверждение ложно. Следовательно, чудес не бывает. Это основание для того, чтобы в ответ на вопрос Дэвиса сказать, что это противоречит мысли о том, что чудо может быть. В этом аргументе нет ничего интересного или оригинального. Что-то очень похожее на него можно найти, например, в «Системе логики»11 Милля. Но поскольку оно игнорируется столь многими современными авторами, стоит дать ему современное изложение.
Everitt N. The impossibility of miracles //Religious studies. – 1987. – Т. 23. – №. 3. – С. 347-349.
1 David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding.
2 J. L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford, 1982).
3 Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford, 1982).
4 Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion (Oxford, 1982).
5 David Hume, указ. соч.
6 Brian Davies, Thinking About God (Geoffrey Chapman, 1985).
7 Среди других авторов, которые хотя бы частично определяют «чудо» в терминах нарушения или попрания законов природы, можно назвать: J. C. A. Gaskin, The Quest For Eternity (Penguin, 1984) и Paul Davies, God and The New Physics (Penguin, 1983).
8 Mackie, указ. соч. стр. 21.
9 Swinburne, указ. соч. стр. 229.
10 Среди тех, кто придерживался этой линии или, по крайней мере, пользовался ею: Ninian Smart, Philosophers and Religious Truth (SCM, 1964), стр. 38; R. F. Holland, ‘The Miraculous’ in D. Z. Phillips (ed.), Religion and Understanding (Oxford, 1967), стр. 155f; and J. C. A. Gaskin, указ. соч.
11 Милль Д.С. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. Пер. с англ. / Предисл. и прил. В. К. Финна. Изд. 5-е, испр. и доп. — М.: ЛЕНАНД. Стр. 474.