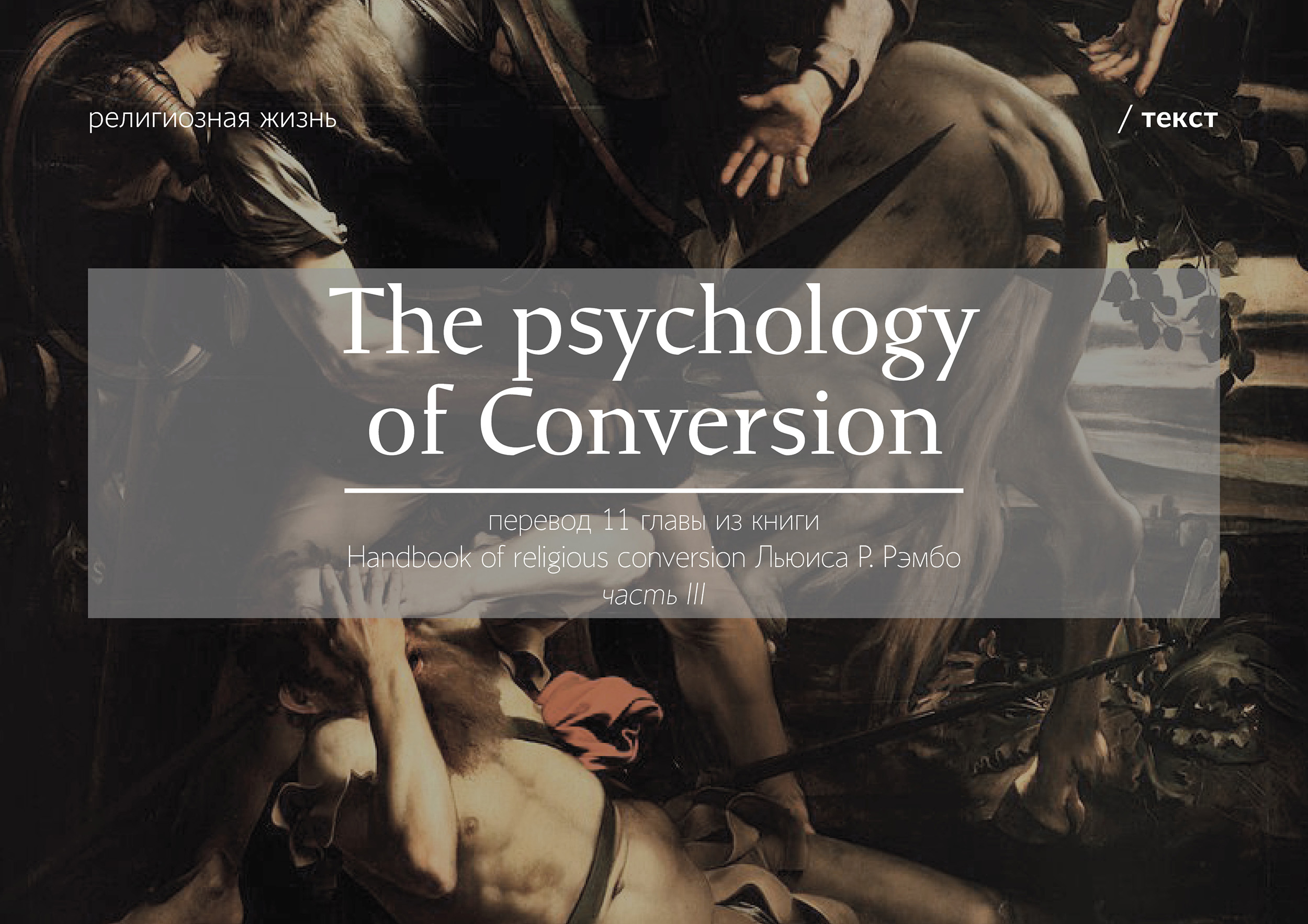ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Если люди продолжают работать в группе после встречи, взаимодействие усиливается. На этом этапе потенциальный новообращенный узнает больше об учении, образе жизни и ожиданиях группы. Группа предоставляет различные возможности, как формальные, так и неформальные, для более полного включения людей в группу. Интенсивность и продолжительность этой фазы различны. Важные переменные, действующие на этом этапе, включают степень контроля группы над коммуникацией и социальным взаимодействием[1], характер процесса убеждения, формирование личных отношений и степень, в которой новообращенный должен отказаться от старого образа жизни, чтобы принять новый, или ему может быть позволено интегрировать два мира.
Теодор Сарбин и Натан Адлер выделили общие элементы, встречающиеся у людей, переживших значительные перемены или трансформацию. Они выделили пять повторяющихся тематических паттернов. Первый — это важность отношений между новообращенным и учителем, наставником или проводником, который служит моделью для нового образа жизни. Почти во всех системах изменений есть проводник по путешествию. Второй — это центральная роль ритуала как способа участия новообращенного в новой религиозной системе. Благодаря ритуалу новообращенный выходит за пределы или даже обходит когнитивное понимание для достижения прямого опыта новых верований и практик. Таким образом, социальные психологи продемонстрировали, что изменения в поведении могут вызывать и закреплять изменения в системах убеждений, опровергая распространенное предположение, что изменения в убеждениях предшествуют изменениям в поведении[2].
Третий распространенный паттерн изменений, выявленный Сарбином и Адлером, — это проприоцептивные стимулы, или телесный опыт. Независимо от того, постится ли новообращенный, медитирует или испытывает какую-либо форму сенсорной депривации, во всех системах значительных изменений участие тела является необходимым фактором[3]. Четвертый тематический паттерн — это метафоры смерти и возрождения. Как и Хардинг, Сарбин и Адлер признают, что то, как человек представляет себе изменения, имеет большое значение для того, как он меняется. Метафоры смерти и возрождения созвучны христианским образам смерти и воскресения Христа, что может усилить отречение новообращенного от прошлого и принятие нового начала[4]. Наконец, Сарбин и Адлер описывают «спусковой крючок», или катализатор, как момент или поворотный пункт, когда внешняя религиозная история становится актуальной и убедительной для человека и начинает им усваиваться.
Хотя Сарбин и Адлер описывают личностные изменения в целом, а не религиозное обращение как таковое, их модель изменений может способствовать дальнейшему пониманию процесса обращения.
Описание и интерпретация процесса обращения могут быть довольно скучными по сравнению с реальным опытом обращения. Такие термины, как «идентификация» и «интернализация», не могут передать те острые, сильные и необычные переживания, которые испытывают некоторые люди при обращении. Психоаналитическая интерпретация пуританского обращения, предложенная Мерфи, близка к тому, чтобы передать драматизм и интенсивность некоторых христианских обращений. По мнению Мерфи, обращение влечет за собой трансформацию всего эмоционального мира человека. Бог, которого когда-то ненавидели и ругали, теперь любим и почитаем. Личность (self), которой раньше поклонялись, теперь отвергнута и предана Богу. Эмоциональная экономика новообращенного преобразуется, устанавливая новые модели жизни[5].
ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
От новообращенного часто требуется открыто и публично заявить о своем вовлечении в новый религиозный выбор и участие в нем. Важнейшие элементы стадии принятия обязательств включают биографическую реконструкцию, свидетельство, ритуалы, вызывание боли, принятие решения и капитуляцию. Иногда этап принятия обязательств представляется как четкая развилка дорог или изменение направления движения. Некоторые христианские группы требуют проведения публичных ритуалов, таких как крещение, чтобы обозначить новое членство человека. Потенциальные новообращенные часто чувствуют, что перед ними стоит выбор между путем жизни и путем смерти.
Продолжая рассмотренный на стадии встречи фактор принятия истории новой группы как своей собственной, на стадии принятия обязательств новая история усваивается более полно, так что новообращенный проходит через опыт биографической реконструкции. Хотя всю обычную человеческую жизнь можно рассматривать как тонкий процесс реорганизации своей биографии, в религиозном обращении часто присутствует требование, скрытое или явное, интерпретировать жизнь с помощью новых метафор, новых образов, новых историй[6].
В группах, требующих от новообращенного дать публичное свидетельство в качестве ритуала посвящения, мы видим процесс биографической реконструкции, облеченный в драматическую форму. Свидетельство — это нечто большее, чем простой рассказ истории жизни или опыта, который привел к обращению. Это творческий процесс, который явно связывает личную историю новообращенного с историей группы. Чтобы дать свидетельство таким образом, новообращенный должен быть внимателен к сигналам группы и рассказать свою историю так, чтобы стало ясно, что он действительно является человеком, который подходит этой группе. После получения свидетельства новообращенный будет использовать эту историю вместе с другими интерпретационными стратегиями как новый способ интерпретации опыта[7].
Как признают Сарбин, Адлер и Зиллер, ритуалы, которые могут быть частью стадии принятия обязательств, являются мощными методами, с помощью которых происходит новое обучение. Крещение, например, представляет собой явный эмпирический процесс, посредством которого человек провозглашает смерть старой жизни и рождение новой[8]. В некоторых религиозных традициях требования изменить одежду, диету или другие модели поведения могут выполнять ту же функцию, усиливая отказ от старых моделей поведения и включение в жизнь человека новых.
Увлекательный взгляд на процесс посвящения дает Алан Моринис. Он исследует ордалии инициации, в которых группы требуют нанесения увечий телу (таких как обрезание, скарификация, избиение, ампутация пальцев или удаление зубов), чтобы намеренно вызвать боль Он полагает, что причинение боли служит двум целям: обостряет самосознание и демонстрирует, что для того, чтобы стать частью группы, человек должен пожертвовать чем-то своим. Хотя ни одна христианская группа, которую я знаю, не требует физического увечья тела как части процесса обращения, боль и травма интенсивно присутствуют в процессе обращения. Истории новообращенных пропитаны мучительными описаниями борьбы с грехом и отчуждением от Бога. Я думаю, возможно, что акцент в консервативном христианстве на греховности, извращенности и порочности перед обращением к Богу является одним из способов создать тот же эффект, что и ритуалы увечья[9].
Принятие решения, которое является неотъемлемой частью стадии посвящения, часто становится поводом для напряженной, болезненной конфронтации с самим собой. Не случайно принятие решения в пользу Христа является главной темой евангельской теологии. В то время как потенциального новообращенного может привлекать Иисус Христос и новая религиозная община, он или она все еще могут быть вовлечены в старый образ жизни. Колебание между двумя мирами может быть очень запутанным и болезненным[10]. С другой стороны, решение перейти черту и оказаться в новой жизни может стать поводом для огромного облегчения и радости. Это чувство новой свободы само по себе может быть мощным психологическим опытом, который подтверждает принимаемую теологию[11].
Многие новообращенные сообщают, что подчинение Богу и/или Иисусу Христу является поворотным моментом в их процессе обращения. К сожалению, в психологии, социологии и антропологии этой теме редко уделяется большое внимание. Гарри Тибу в своих исследованиях Анонимных Алкоголиков (АА) указывает на перспективное направление. Люди часто борются с вопросом или проблемой в течение длительного периода времени, и их страдания истощают их. В АА человек, наконец, сталкивается с реальностью, что он или она алкоголик и совершенно не способен изменить эту реальность. Парадоксально, но после искреннего признания этой беспомощности у человека появляются силы начать процесс борьбы с алкоголизмом. Я считаю, что подобный процесс иногда происходит и при обращении христиан. Когда человек противостоит своему затруднительному положению потерянного грешника, подчинение этому знанию и подчинение Иисусу Христу как избавителю является тем самым моментом, когда появляется энергия для новой жизни. Психоаналитическая интерпретация Тибу основывается на понятии энергии. Много энергии тратится на поддержание борьбы. При капитуляции высвобождается энергия, которую можно использовать в других аспектах жизни человека[12]. Марк Галантер предлагает аналогичный процесс, который он называет «эффектом облегчения». Он происходит, когда человек идентифицирует себя с группой[13].
Как уже отмечалось в связи со стадией встречи, первоначальное участие в религиозной группе часто облегчается установлением эмоциональных связей между потенциальным новообращенным и адвокатом. По-видимому, решение человека взять на себя долгосрочные обязательства перед группой в определенной степени определяется степенью связи, которую он ощущает с новой группой, в отличие от внешних связей. Насколько я могу судить, исследования христианских групп в этой области не проводились, но исследование Марка Галантера и его коллег, посвященное Церкви Объединения (муниты), наводит на определенные размышления. Они обнаружили, что после участия в семинаре по вовлечению большинство потенциальных новообращенных приобрели практически одинаковый уровень убеждений Церкви Объединения. Другими словами, все те, кто прошел семинар, были убеждены в необходимости утвердить эту систему верований. Основным фактором для тех, кто остался в группе, был не уровень их веры, а то, были ли у человека более крепкие отношения с людьми в группе, чем с людьми вне движения.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Характер последствий частично определяется характером, интенсивностью и продолжительностью обращения. Сколько аспектов жизни затронуто обращением? Насколько масштабны эти изменения? В какой степени новообращенные отчуждены от внешнего мира или примирены с ним? Многие современные ученые считают, что подлинное обращение — это непрерывный процесс трансформации. Начальное изменение, хотя оно и важно, является лишь первым шагом в долгом процессе паломничества.
Последствия можно рассматривать как с точки зрения новообращенного, так и с точки зрения стороннего наблюдателя. Как новообращенный переживает последствия? Какие переживания, идеи, отношения и события возникают в процессе обращения и как они влияют на человека? Эти последствия могут убедить новообращенного в правильности и ценности обращения, а могут заставить его усомниться в его разумности. Эти изменения также влияют на других людей в жизни новообращенного, вызывая как положительные, так и отрицательные реакции, которые либо облегчают, либо препятствуют процессу обращения[14].
Сторонний наблюдатель стремится оценить последствия обращения с точки зрения теологической достоверности и ценности и/или для того, чтобы поставить психологический диагноз в отношении пользы и вреда для психологического здоровья человека[15]. Таким образом, чтобы оценить, что является прогрессивным, а что регрессивным, наблюдатель должен четко указать свои собственные ценности, поскольку наша теологическая, интеллектуальная и личная позиция неизбежно будет формировать нашу интерпретацию человеческого поведения. Например, может ли агностик или атеист подтвердить обоснованность и ценность обращения в фундаменталистское христианство? Может ли набожный консервативный протестантский ученый понять и подтвердить обращение в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней?[16]
Помимо этих очевидных вопросов религиозной ориентации, ученые должны признать более тонкие ценности, присущие их теоретическим моделям и аналитическим инструментам. Например, если психологи пытаются оценить последствия обращения в другую веру для психического здоровья, признают ли они культурные ценности, которые определяют их модель психического здоровья? Понимают ли они, как их модель может быть по-другому представлена в других культурах? Признают ли они базовые культурные, личные и профессиональные предположения, на которых основана их работа?[17]
После того, как предубеждения и предположения были распознаны, психологическая оценка обращения должна задаваться вопросом, был ли прогресс, регресс или фиксация. Одно из исследований, посвященных этим вопросам, было проведено Робертом Симмондсом. Он спросил, было ли обращение в движение Иисуса подлинным обращением или просто заменой пристрастия к наркотикам пристрастием к Иисусу. Учитывая акцент на «зависимости от Иисуса» и послушании лидерам и членам группы, похоже, что, по крайней мере в этом случае, не произошло реального изменения личности, а просто замена одной зависимости на другую[18].
Поучительно также исследование группы фундаменталистов, проведенное Дэвидом Гордоном. Вообще говоря. психологи очень подозрительно относятся к понятиям капитуляции, самоотречения и зависимости от группы, потому что такие понятия часто указывают на незрелость. Однако Гордон обнаружил, что люди, участвовавшие в его исследовании, на самом деле добились значительных положительных изменений в своей жизни, потому что они отказались от способов функционирования, которые были непродуктивны для новых моделей жизни. Таким образом, «умирание для себя, за которое выступала группа, было психологически эффективным, позволяя людям обрести новый эго контроль и силу. Эти исследования показывают, что оценка — сложный процесс[19].
Еще один возможный подход к оценке обращения — это перспектива развития веры, разработанная Джеймсом Фаулером. Процесс обращения для конкретного человека может быть описан в терминах, основанных на критериях, соответствующих возрасту и стадии развития человека. Обращение и процессы развития соотносятся друг с другом по-разному. Например, переход от одной стадии развития к другой может быть поводом для обращения. Точно так же обращение может способствовать переходу на новый этап развития. Однако многие обращения являются просто отражением стадии развития человека в то время. Иными словами, уровень развития человека служит фильтром, через который происходит обращение, задавая параметры того, что может быть достигнуто в результате этого обращения, и влияя на то, что привлекательно для потенциального новообращенного[20].
Я надеюсь, что драма обращения будет продолжать привлекать внимание психологов. Я также надеюсь, что психологи будут все больше понимать сложность и динамичность феномена обращения и вместе с другими представителями гуманитарных наук и религиоведения будут разрабатывать методы исследования и теории, достойные этого предмета.
Rambo L. R. The psychology of Conversion // H. Newton Malony, Samuel Southard. Handbook of religious conversion. Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1992.С. 159–177.
[1] Важный процесс, который редко обсуждается психологами — это процесс инкапсуляции. См. Arthur L. Greil and David R. Rudy. «Social Cocoons: Encapsulation and Identity Transformation Organizations», Sociological Inquiry 54 (Summer 1984): 260-78.
[2] Theodore R. Sarbin and Nathan Adler, «Self-Reconstitution Processes: A. Preliminary. Report», The Psychoanalytic Review 57 (Winter 1970): 599-616.
[3] Увлекательное исследование этого вопроса см. в Stephen R. Wilson, «Becoming a Yogi: Resocialization and Deconditioning as Conversion Processes», Sociological Analysis 45 (1984): 301–14.
[4] Важнейшей областью будущих исследований будет изучение роли метафор в формировании сознания и опыта. См. Ralph Metzner, «Ten Classical Metaphors of Self-Transformation», Journal of Tray personal Psychology 12 (1980): 47-62 and «Opening to Inner Light: The Transformation of Human Nature and Consciousness» (Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, 1986), См. также George Lakoff and Mark Johnson, «Metaphors We Live By» (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
[5] Murray G. Murphey, «The Psychodynamics of Puritan Conversion», American Quarterly 31 (Summer 1979): 135-47.
[6] См. James A. Beckford, «Accounting for Conversion», British Journal of Sociology, 29 (June 1978): 249-62; Brian Taylor, «Conversion and Cognition», Social Compass 21 (1976); 5-22; Brian Taylor, «Recollection and Membership: Convers’ Talk and the Ratiocination of Commonality», Sociology 12 (May 1978): 316-24; David A. Snow and Richard Machalek «The Sociology of Conversion», Annual Review of Sociology 10 (1984): 167-90; Mordechai Rotenberg, «The ‘Midrash’ and Biographic Rehabilitation», Journal for the Scientific Study of Religion 25 (1986): 41-55.
[7]Другой способ объяснения процесса биографической реконструкции — это теория атрибуции. См. Bernard Spilka, Phillip Shaver, and Lee A. Kirkpatrick, «A General Attribution Theory for the Psychology of Religion», Journal for the Scientific Sandy of Religion 24 (1985) 1-20 и Wayne Proudfoot and Phillip Shaver, «Attribution Theory, and the Psychology of Religion», Journal for the Scientific Study of Religion 14 (1925): 317-30.
[8] См. прекрасную статью Lucy Bregman, «Baptism as Death and Birth: A Psychological Interpretation of its Imagery», Journal of Ritual Studies 1 (Summer 1987): 27–42.
[9] Alan Morinis, «The Ritual Experience: Pain and the Transformation of Consciousness in Ordeals of Initiation», Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 13 (Summer 1985): 150-74. Сравните с E. O. Boyanowsky, «The Psychology of Identity Change: A Theoretical Framework for Review and Analysis of the Self-Role Transformation Process», Canadian Psychological Review 18 (April 1977): 115–27.
[10] Никто не изобразил эту борьбу лучше, чем Paul W. Pruyser’s «Between Belief and Unbelief» (New York: Harper & Row, 1974).
[11] См. отличное обсуждение принятия решений и выбора у Eileen Barker, «The Conversion of Conversion: A Sociological Anti-Reductionistic Perspective», in Reductionism in Academic Disciplines, ed. Arthur Peacock (London: Society for Research into Higher Education, 1985), 58-75. Также см. C. David Gartrell and Zane K. Shannon, «Contacts, Cognitions, and Conversion: A Rational Choice Approach», Review of Religious Research 27 (September 1985): 32–48.
[12] Harry M. Tiebout, «The Act of Surrender in the Therapeutic Process», Quarterly Journal of Studies on Alcohol 10 (June 1949): 48-58.
[13] Marc Galanter, «The ‘Relief Effect’: A Sociobiological Model for Neurotic Distress and Large-Group Therapy». American Journal of Psychiatry 135 (May 1978); 88-91.
[14] Интересное обсуждение см. в книге Irwin R. Barker and Raymond F. Curric, «Do Converts Always Make the Most Committed Christians? » Journal for the Scientific Study of Religion 24 (1985): 305-13.
[15] Примеры такого диагноза см. в K. Bragan, «The Psychological Gains and Losses of Religious Conversion», British Journal of Medical Psychology 50 (June 1977): 177–80 и Gerda E. Allison, «Psychiatric Implications of Religious Conversion», Canadian Psychiatric Association Journal 12 (February 1976): 55–61.
[16] Прекрасное исследование проблем, связанных с оценкой того, что является прогрессивным и регрессивным, см. у Ken Wilber. «The Pre/Trans Fallacy», ReVision 3 (Fall 1980)- 51–72.
[17] Хорошим примером тщательной оценки является работа H. Newton Malony, «Conversion: The Sociodynamics of Change», Fuller Theological Seminary: Theology, News and Notes (June 1986): 16–19,24.
[18] Robert B. Simmonds, «Conversion or Addiction: Consequences of Joining a Jesus Movement Group», American Behavioral Scientist 20 July/August 1977; 902-24.
[19] David F. Gordon, «Dying to Self: Self-Control Through Self-Abandonment», Sociological Analysis 45 (1984): 41-56.
[20] James W. Fowler, «Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning» (San Francisco: Harper de Row, 1981) и «Becoming Adult, Becoming Christian» (San Francisco: Harper & Row. 1984).