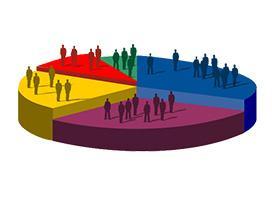Аннотация. В статье рассматривается ряд загадок религиозного сознания, обусловленных предисторическим и историческим развитием религии. Выделяется категория религиозного творчества как особой разновидности творческой деятельности. Показывается, что рационализация религиоведческого знания имеет сложную конфигурацию в силу своей методологической ограниченности.
Глаголев В.С. Герметичность религии как проблема социологического исследования // Социология религии в обществе Позднего Модерна (памяти Ю.Ю. Синелиной) : материалы Третьей Международной научной конференции. НИУ «БелГУ», 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ИД «Белгород», 2013. – 460 с. С. 77-86.
Обращение к событиям минувшего времени, тем более с ностальгическим ощущением их необратимости, напоминает ситуацию, смоделированную записными остряками дореволюционного журнала «Сатирикон», оказавшимися в эмиграции. В пивной низкого пошиба один из опустившихся русских эмигрантов-интеллигентов показывает другому на свою маленькую собачку: «А знаете, – говорит он, – в России эта собачка вот такой была!», – и высоко поднимает руку. Мораль анекдота проста: возможность гомерических аберраций по понятным эмоционально-психологическим основаниям.
Об опасности такой аберрации приходится помнить, когда обращаешься к опыту социологических исследований, начавшихся на кафедре истории и теории атеизма и религии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1962 году и развернувшихся в Орловской области, Краснодарском крае и Карагандинской области в последующие два года. Автор этих строк принял участие в экспедиции в Краснодарский край в 1963 году, и имел возможность обращаться к этому опыту на юбилейных заседаниях, посвященных 50-летию работы кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ и 45-летия аналогичной кафедры, созданной в советское время в рамках Академии общественных наук при ЦК КПСС и возрожденной проф. Н.Т. Трофимчуком в Академии государственной службы при Президенте РФ[1].
Прежде всего, эти экспедиции являлись своего рода культурно-исследовательским десантом с привлечением интеллектуально-аналитического потенциала преподавателей и аспирантов кафедры (программу Краснодарской экспедиции составил тогда доцент, а в будущем – профессор Юрий Филиппович Борунков). В самом Краснодаре и в некоторых районных центрах у членов экспедиции были местные помощники из числа сотрудников государственных органов, а также работников местного вуза, интересовавшихся изучением религии. Последние обеспечивали предварительную ориентацию относительно специфики тех религиозных групп, к которым затем обращались столичные исследователи (их лидеров, «засветившихся» активистов, историю создания, функционирования и наиболее ярких моментов религиозной деятельности). Эти характеристики подкреплялись сведениями, опубликованными в местной печати, и информацией, имевшейся в распоряжении тогда существовавшего аппарата уполномоченного по Краснодарскому краю Совета по делам религиозных организаций при Совмине СССР.
На местах дополнительные сведения могли дать, как правило, секретари местных советов, к которым стекалась так называемая «открытая» информация. К «закрытой» информации местных силовиков члены экспедиции доступа не имели, хотя ориентировки этих структур не могли не определять призмы анализа и содержание оценок официальных властей. Изначально такое положение создавало исходную недоговоренность в работе с информационным материалом. Аналогичным образом эта недоговоренность присутствовала в использовании обязательных идеологических клише, без которых публикация материала в научной и массовой печати была невозможна.
К слову сказать, в свое время автор этих строк получил извещение, датированное 30 сентября 1964 года, из Стерлитамакского педагогического института (Башкирия) о том, что его статья, посвященная эстетическим особенностям православного самосознания, изъята из гранок сборника распоряжением начальника Башобллита (местной цензуры). Основания изъятия: 1. В статье приведено слишком много цитат из сочинений религиозных авторов, которые могут служить пропаганде религии; 2. В статье недостаточно раскрыты руководящие указания Н.С. Хрущева, касающиеся задач усиления атеистической пропаганды (напомню, что Хрущев был освобожден от всех государственных постов 14 октября 1964 г.). Приведенный случай дает представление об особенностях той идеологической атмосферы, в которой протекало изучение религии в советское время и о канонических условиях, при которых была возможна публикация материалов социологических исследований.
Разумеется, эта атмосфера сказывалась в первую очередь на состоянии верующих и активистов при встречах с членами экспедиции и на содержании интервью. Большинство реципиентов относилось к приезжим с огромной настороженностью – ее питал сам факт приезда людей из Центра, особенности языка людей с университетским образованием, на который не могли не наложить свою печать занятия наукой (в основном, в начальной стадии – аспиранты!). Как правило, научные неофиты отличаются особой склонностью к употреблению специальных терминов, особенно в среде, неподготовленной к их восприятию… Примерно в это же время данное явление отметил Василий Шукшин в своем юмористическом рассказе «Срезал».
В результате опрашиваемые предпочитали отвечать «уклончиво». Либо по формуле неприличного отечественного анекдота, когда уклончивость означает отсылку по конкретному адресу, состоящему из предельно короткого слова. Либо они соглашались с ответами, имплицитно содержавшимися в задаваемых вопросах, в интонациях опрашивающего и т.д. Напротив, «засветившиеся» активисты (это были баптисты, пятидесятники и конвертиты – переходившие из одной конфессии в другую, иногда неоднократно) отличались демонстративной готовностью пострадать за исповедание веры. Как правило, эти реципиенты проявляли четкость в своем отрицательном отношении к атеистической идеологии, а так же к конфессиям, находившимся в противоречии с принципиальными особенностями кредо их собственных религий. Это было характерно для пятидесятников, баптистов и сторонников православия, отличавшихся равнодушием к тогдашнему клиру и церковной иерархии. При этом православные не отождествляли себя с движением «истинно православных христиан» и со сторонниками Истинно-православной церкви (катакомбной), – это подводило их под риск не только административных преследований, но и уголовного наказания; но давали понять, что не разделяют практики официальной РПЦ. Аналогичная картина наблюдалась при встречах с так называемыми баптистами-раскольниками («крючковцами»[2]). Эти сдержанно и холодно реагировали на упоминание руководителей и программных установок Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов.
В настоящее время, по крайней мере, до принятия последних изменений в Уголовном Кодексе о наказании за оскорбление религиозных чувств, реципиенты из религиозных кругов на местах не проявляют особой сдержанности в своих сообщениях исследователям, прибывшим из столиц: сказывается более чем 20-летний срок пропагандистского образа России, ставшей на путь демократии. Однако по наблюдениям автора часть опрашиваемых старается уклоняться от характеристики личности и деятельности местных руководителей. Это касается, в первую очередь, руководителей местных общин так называемых традиционных религий, – т.е. имеющих правовые преференции по сравнению с остальными религиями, течениями и религиозными группами. Среди последних существует сектор (достаточно зыбкий) тех, кто находится на связи с местным руководством, заинтересован, по крайней мере, в его нейтральной позиции по отношению к соответствующим общинам. Некоторые надеются на разовые акты поддержки или на сохранение сложившегося статус-кво в отношениях с местными государственными органами.
Наконец, существуют общины, руководителям которых, как говорится, нечего терять. Например, общины Автономной русской православной церкви России. В этом случае их характеристики доминирующих в России конфессий предельно нелицеприятны.
Имея дело с подобного рода оценками, исследователь религии вынужден не только фиксировать место, время и контекст тех ситуаций, которые их питают, но и пытаться разобраться – насколько они соответствуют действительным фактам и тенденциям. Как правило, это – сложная задача, поскольку каждая из сторон в своих противоположениях хранит и свою «долю» истины.
Отсюда – проблема не только описания и классификации действующих в стране религиозных сил, но и необходимость постоянного мониторинга взаимоотношений между ними. Десанты, подобные описанному Краснодарскому 1963 года, не могли, разумеется, справиться с это задачей. Некоторое приближение к ее грамотной постановке могли бы дать постоянно действующие пункты социологического мониторинга на местах, в расширенном виде учитывающие опыт, накопленный работой местных опорных пунктов бывшего Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС. При всем доминировании идеологической составляющей в работе этих структур, они создавали предпосылки для систематического накопления и анализа – в режиме реального времени – религиозной динамики. В то же время польза этого опыта, отделенного от нашего времени несколькими десятилетиями, несомненна. Он давал представление о местных, региональных и общесоюзных сложностях религиозной ситуации в стране; позволял познакомиться с основными типами в проявлении религиозного сознания – как у руководителей, так и в среде рядовых верующих; демонстрировал воочию несовершенство действовавшей законодательной практики и способы ее произвольного проявления на местах. Периодически возникали ситуации, когда верующие делились с исследователями самым значимым, сокровенным в обосновании того приоритета, который они отдавали религиозным ценностям. На фоне доминировавшей бюрократической практики и склонности государственных структур к силовым решениям конфликтных ситуаций в отношениях между конфессиями и конфессий – с государственными структурами, этот исследовательский опыт не мог не обогатить палитру научного видения религиозного сознания и своеобразия форм его проявления в конкретных социальных и социокультурных условиях.
Однако и в настоящее время исследователи располагают лишь отдельными достоверными фрагментами этой картины религиозной жизни России. В первую очередь благодаря работам таких социологов религии, как И.Н. Яблоков, М.Г. Писманик, Ю.Ю. Синелина, Л.И. Григорьева, Н.С. Капустин, С.В. Дударенок, С.Д. Лебедев и некоторых других. Заслуживает внимания социолого-религиоведческая деятельность службы «Арена», работы группы под руководством М.М. Ремизова и, разумеется, системный проект «Атлас религиозной жизни России» под руководством А.В. Малашенко, С.Б. Филатова, Р.Н. Лункина и др. Последние, как и Л.И. Григорьева, С.В. Дударенок, а также А.П. Забияко и А.В. Иванов, сумели установить доверительные отношения с рядом религиозным организаций на основных уровнях их функционирования. Благодаря принципу многоуровневости наблюдений и источников социологической информации, результаты их работы отличаются таким обязательным качеством любого серьезного социологического исследования, как объемность, стереоскопичность, если воспользоваться геометрическим понятием. Это позволяет избегать риска моментальных фотографий или развития моносюжетов, и создает возможность фиксировать внимание на точках бифуркации, т.е. тех зародышах конфликтов, которые непрерывно возникают в религиозной среде.
Напомню: И.И. Иванова насчитала в истории христианства порядка 2 400 направлений, течений и ересей, из которых в своей докторской диссертации смогла коснуться (хотя бы упомянуть) порядка 1200. Полагаю, что аналогичную картину броуновского движения претензий, пророчеств, религиозно-политических проектов и т.д. накопил и мусульманский мир в своем историческом развитии. Аналогично обстоит дело в буддийской, иудаистской и других средах внутриконфессионального общения (не говоря уже о межконфессиональном). До конца остается невыясненным их имплицитное соучастие в современной религиозной жизни. Да и многие явные факты и события часто являются многозначными и многовекторными в своем значении для развертывающихся религиозных процессов.
Рискую выдвинуть предположение, которое будет, однако, трудно обосновать. Полагаю, что трудность эта коснется как нынешнего, так и последующих поколений социологов религии: религиозная социология была и остается принципиально «запаздывающей» научной дисциплиной, идущей, подобно истории, вслед за событиями и лишенной исчерпывающего собственного инструментария. И дело здесь не только в тех генетических пороках становления этой дисциплины, о которых идет речь в начале настоящей статьи. Уже то обстоятельство, что «биография» этой дисциплины укладывается с определенными допусками в столетие, дает представление о трудностях работы с религиозными объектами с точки зрения их генезиса и проделанных ранее стадиях его развертывания.
В какой-то мере оказывают помощь штудии истории, экономики, политики и социокультурной жизни, – но и в этих дисциплинах существуют «родовые пятна» схематичности, возникшие в первую очередь из-за лакун привлекаемого материала. Вопреки часто цитируемому утверждению М.А. Булгакова, архивы всегда сжигались, а также фальсифицировались. Подчас восстановление исторической истины требует не меньшей изобретательности, тщательности и других качеств криминалиста, что и работа Шерлока Холмса[3].
Помимо лакун, образованных в результате проявления взаимной интолерантности, политических, экономических и иных расчетов (в том числе, и элементарного эгоистического соперничества), существуют причины пред-исторического порядка. В своем недифференцированном, синкретическом состоянии, религия, как известно, столь же древнее духовное образование, что и вся история человечества. Она сопровождает и активно влияет на него с образованием человеческих сообществ. Описать ее влияние, психологию людей и исчерпывающе выделить собственно религиозное содержание из множества опосредований, присутствовавших в становящемся человеческом сознании, теоретически невозможно. Здесь приходится ограничиваться представлением о выборе тех исходных предпосылок, о которых говорит проф. М.В. Силантьева в статье для настоящего сборника. Однако «сухой остаток» этих духовных образований в виде так называемых архетипов продолжает воспроизводиться и в настоящее время, если принять представляющееся мне убедительным соответствующее положение социального психоанализа.
Следы предисторического происхождения этих архетипов, последовательно закреплявшиеся и воспроизводившиеся в сменявших друг друга религиозно-ритуальных практиках многих тысячелетий, присутствуют и в наши дни в описаниях богослужебной практики и необходимости строгого соблюдения определенных обрядов. Разумеется, современные объяснения этих практик, унаследованные в частности христианством от иудаизма и культов, существовавших на территории Римской империи до прихода ее легионеров в Иудею, интерпретируются современным христианским богословием в направлениях, соответствующих основным представлениям и интенциям цивилизованного сознания современности. Происходит тот процесс рафинирования исходного общественно значимого содержания, на который неоднократно указывали основоположники марксизма-ленинизма.
В интересных публикациях проф. М.А. Пылаева[4], посвященных истолкованию категории «святое» в феноменологии религии и религиозной феноменологии, показано, что процесс такого рафинирования достигает состояния Чеширского кота, когда животное исчезает, а улыбка остается… Но был ли мальчик? То есть, простите, кот? Если нет, то свойство отделено от субстанции, его обусловившей; а соответствующие интерпретаторы находятся в мире явлений, нескоррелированном с их сущностными основаниями. Заниматься этими процессами важно, интересно, даже научно содержательно. Но если утратить допущение исторического генезиса исследуемых феноменов, то с ним теряется важнейшее условие собственно научного построения – раскрытие последовательности (по крайней мере, последовательности) причинно-следственных связей. Может ли наука самоустраниться от допущения их наличия в качестве ели не основного, то хотя бы тоже обязательного, предмета своих забот? Если нет, то изящные построения рафинированнейших феноменологических классификаций религиозных образов и представлений становятся лишь предварительным для науки описательным этапом их нынешнего состояния. Не снимается вопрос – чем же вызваны эти состояния? Ответить на него исчерпывающим образом, детальной реконструкцией всей полноты исторического движения религиозного сознания до настоящего времени не в состоянии ни этнография, ни история религий, ни история религиозных идей (курс, читаемый проф. А.Б. Зубовым в МГИМО(У)), ни социальная психология… Это, по видимому, одна из тех мировых загадок, на которые свое время обратил внимание (в ином, правда, наборе) Т.Г. Гексли в работе «Мировые загадки».
Вторая загадка религии, определяющая герметичные стороны ее как объекта исследования, связана с непосредственным характером ее как объекта сознания. Строго говоря, это та же самая недифференцированность – синкретичность, которая отличала его в момент зарождения. Есть, разумеется, отличия по содержанию: кругозор знания и впечатления пещерного человека не сопоставимы с проявлениями сознания нашего религиозного современника в 21 столетии. Оставляя в стороне эти особенности, можно говорить о коктейле, где «все во всем»; где необязательно соблюдение теоретической последовательности, а желания не подчинены возможностям их реализации. Собственно, к тому же сводится и ожидание чуда: «Господи, сделай так, чтобы дважды два не было четыре». На бытовом уровне эту хаотичность сознания с верующими разделяют люди иных мировоззрений. Но для верующего, если он не богослов, непосредственное переживание чудесного является свидетельством его пребывания в родном для него доме религии. Оказываясь вне него, он испытывает ощущение чуждого ему мира, часто зловещего в своих содержательных и феноменальных проявлениях. Утрата непосредственности, то есть состояние гипертрофии теоретичности, для него – признак излишнего умствования, т.е. потеря собственно религиозной почвы. Для каждой личности, конечно, имеются собственные границы непосредственного отношения к миру и теоретически опосредованного постижения его. Но для верующего отсутствие непосредственности означает профанацию самого главного в религиозном мироощущении. Именно об этом и говорил Христос «Будьте как дети!». При всей умудренности жизненным опытом и антропологическими знаниями, сознание ребенка в его импульсивных проявлениях всегда представляет загадку для взрослого. Даже для его родителей. Они знают о возможностях импульсивных, неожиданных проявлениях сознания и реализации их в действиях ребенка. Но это знание далеко не всегда соответствует конкретным условиям появления образов сознания и поступков маленького человека.
Секрет проявлений непосредственности христианской веры с разной степенью проработанности относится и к «делам веры» другими религиями: религиозный поступок реализуется всей полнотой личности человека, а не следованием им слепому желанию, навязчивому образу, либо умозрительной схеме.
В данном отношении уместно напомнить о значении образно-художественных сторон религиозного сознания. Они не только определяют начальные этапы приобщения к той или иной конфессии массы верующих, но и стимулируют утонченные, подчас взаимно исключающие тенденции мира религиозного сознания выдающимися религиозными мыслителями. Последние питались насыщенностью, масштабностью и глубиной образов религиозного искусства. Это относится не только к художникам, бывшим философами религии и к философам религии, отличавшимися художественными способностями, но и к богословам рационалистического направления. Когда последние выходили из плоскости чисто логических умозаключений, их обступал образный мир религиозного сознания, транслировавшийся художественным творчеством от поколения к поколению и выражавший в целостной – образно-интеллектуальной – форме непосредственное присутствие божественной реальности. Систематическое уклонение от целостности «контакта» с этой реальностью создает у верующих ощущение обеднения, оскудевания полноты их переживаний, то есть подмены «подлинной» веры логическими схемами различной направленности или «искусством» (т.е. конструкциями человеческого сознания, не являющимися сакральными символами, а лишь намечающими – в лучшем случае – на их существование). Отвергая их нигилистические и атеистические варианты, от примитивно богоборческих до интеллектуально изощренных в силу ощущения такой подмены, верующий сопротивляется логико-классификационным интерпретациям целостности своей духовной жизни.
Поскольку речь идет о непосредственности сознания, возникает вопрос о его соотношении с творчеством. Облечение религии в поступок, а тем более, в последовательный самостоятельный выбор, безусловно, является творческим актом. Как и основное русло художественной деятельности, основное русло деятельности религиозной содержит творческие моменты. Загадка творчества была и остается в том, что оно происходит в «черном ящике». Исследователи могут предполагать, кто более, а кто менее способен к творческим актам. В абстрактном виде к ним способны все, за исключением альтернативно одаренных. Но быть уверенным до того, как этот акт состоится, в качестве его конечных проявлений и даже в его основном содержании, нельзя (если исследователь не слишком самоуверен, не чересчур много полагается на безошибочность собственной интуиции).
Возражением против утверждения творческих состояний как основного тренда религиозного сознания является отсылка к традиционному характеру религиозных представлений, религиозных обрядов и достаточно устойчивому ходу развертыванию под их влиянием религиозных переживаний. Конечно, традиционализм – основное свойство, предопределяющее устойчивое воспроизводство религиозной жизни. Но, во-первых, оно сохраняется на фоне бесчисленных испытаний нетрадиционными рецептами «истинной» религии (соблазнами, как считает традиционное религиозное сознание). И борьба с этими «соблазнами» является основным содержанием религиозной жизни до тех пор, пока они, эти соблазны, не обогатят и не видоизменят эволюционный ход (а то и не обеспечат прямой разрыв) с исторически сложившейся традицией. «Поле борьбы бога с дьяволом – сердце человеческое», – учат богословы. А чем является сердце, как не самым отзывчивым органом поиска и выбора жизненных смыслов?
Верующий традиционно, если он не растет как трава, а рефлексирует по поводу смысложизнанных ценностей, принимает религиозную систему ценностей в результате пережитых им (на практике или в воображении – другое дело) испытаний возможностями, либо уже пройденными им путями. Можно ли отрицать творческое содержание в отказе от ложного пути и в уверенности обретения пути истинного? Философская, религиозно-автобиографическая литература от «Исповеди» Августина, «Истории моих бедствий» Абеляра, «Мыслей» Паскаля, «Исповедей» Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. Толстого, – до самопознания Н.А. Бердяева и экзистенциалистской книги «Слова» Ж.-П. Сартра в концентрированном виде представили творческие состояния людей, усилиями внутренней духовной работы выбирающих свою линию жизни.
Традиция атеистического просвещения и марксизма отличается весьма низкими оценками творческого содержания религиозного сознания. Последнее представлено в этой интеллектуальной традиции тяжеленной гирей, тянущей человека назад. Если не к его первобытному состоянию, то, по крайней мере, к отсталости. Соответственно, упразднение религии выглядит в этих концепциях решающим рывком к быстрому достижению всеобщего счастья. Рывком тем более привлекательным, что для него не требуется иных вложений, кроме заботы о систематическом атеистическом просвещении. Как показала практика СССР, КНДР и Албании при Энвере Ходже, такое просвещение на самом деле обходится дорого, игнорируя возможности творческого потенциала народной культуры, нигилистически относясь к религиозному содержанию художественного творчества мировой и национальной культуры.
Религия сопровождает историю человечества, постоянно привлекая внимание и духовные силы сменяющих друг друга поколений к необходимости самоопределения в смысложизненной проблематике и к соблюдению определенной гигиены в самостоятельном выборе смысложизненных ценностей. В ее традициях в особой форме закреплен огромный опыт человечества в данной сфере, обойтись без учета которого (и необходимой корректировки!) оно просто не может. Корректировка же не тождественна нигилизму.
В предельно широком смысле место религии в общественной жизни определяется всеобщим характером соотношения инноваций и традиций, которое стоит перед человечеством и транслируется от поколения к поколению как необходимое условие выживания человечества, его состоятельности и движения к лучшему. О последнем мечтают все религии, за исключением пророков безысходного катастрофизма. Страх Божий, который в той или другой форме внушают своим последователям все религии, означает, с одной стороны, необходимость деятельности. Лень – мать всех пороков в дохристианской традиции и один из опаснейших пороков в христианстве, поскольку она неумолимо разлагает творческий потенциал личности (если, конечно, не превращать Илью Ильича Обломова в идеал гармоничной самодостаточности). Лень зарывает таланты. В отличие, добавим, от разумной релаксации, способствующей сбалансированной оценке внешних обстоятельств и соотношения с ними собственных духовных координат. Устремленность личности к творчеству предполагает одновременно опасение негативных последствий духовного движения («погубить душу») и внешних изменений в худшую сторону в материальной практике. Есть, конечно, формула – «это даже хорошо, что пока нам плохо», воспроизведенная Роланом Быковым в кинофильме «Айболит-66». Но последовательное осуществление подобной программы является показателем крайнего мазохизма. Оно обычно сочетается с надеждой: «Мы еще увидим небо в алмазах», широко эксплуатируемой как политическими, так и религиозными идеологиями.
В религии существует жизнь в миру и жизнь вне мира – отшельничество, общежитийные монастыри. Вне мира все равно приходится принимать хозяйственные и организационные решения. История братии Соловецкого монастыря показывает, что монахи в состоянии успешно противостоять суровым условиям природы и добиваться незаурядных хозяйственных успехов. Они могут писать книги, создавать иконы и росписи, церковные песнопения, выразительные архитектурные образы и произведения прикладного искусства. Главное их занятие, разумеется, не в этом. Они молятся за мир. И у тех, кто остался в миру, сохраняется надежда, что эти молитвы помогут им в трудные минуты и могут сыграть решающую роль в спасении их душ. В том числе, и на последнем Страшном Суде. В этой православной системе, во многом сходной с католической, существенен акцент на том, что жизнь человека не заканчивается со смертью его. Он несет вечную ответственность за свои помыслы и поступки, и, уходя из этого мира, от этой ответственности не освобождается.
Как известно, нравственное значение принципа ответственности как основополагающего источника нравственного поведения людей признавалось незаурядными мыслителями. Ряд их практически бесконечен. И выдвинутый И. Кантом категорический императив, не упоминая о Боге прямо, взывает к нравственному мужеству людей, способных следовать общим правилам, достигшим статуса всеобщего законодательства. Эти правила – необходимые законы, которыми поверяется каждый существенный – по своему содержанию и последствиям – поступок человека. Нравственный человек внутренне обязан следовать общему правилу мотивировать свои поступки мерой справедливого законодательства, приемлемого для всего человечества.
Этот нравственный закон в душе предполагает, согласно Канту, убеждение в его несубъективном, неслучайном, неситуативном источнике. Такое убеждение традиционно предлагает религия – даже когда она (как протестантизм) освободилась от детализированных церемоний, календарно расписанных обрядов, организационной иерархии (в которой каждый из уровней считается наделенным своей мерой, – а следовательно, и своими возможностями благодати). Кантовское обоснование нравственности предполагает требовательного человека. Требовательного к себе, к своему внутреннему духовному укладу. И последовательного в реализации этих требований.
Человек располагает возможностью быть свободным, но реализует эту возможность лишь тогда, когда его поступки оказываются соответствующими требованиям нравственного абсолюта. Соответственно, самые «правильные» нормы и установки являются конкретно-историческими, т.е. частичными, а часто и ситуационными проявлениями существующего для человека абсолюта свободы. Здесь он равен Богу, лишенному каких бы то ни было антропоморфных характеристик, кроме важнейшей – свободы. И возможность свободы, возможность действовать по свободе, уравнивает его (человека) с Богом в момент реализации требований категорического императива. Здесь Кант проделал свой путь рафинирования нравственного содержания религии, за которым стоит сложная и противоречивая история религиозных верований человечества.
Религиозный импульс, содержащийся в кантовском призыве к реализации нравственного достоинства человека требует от него (человека) незаурядных душевных и интеллектуальных качеств. Он не должен дать себя увлечь соблазнами гедонистического плана. Это – ошибочный путь, ведущий в тупик. Он не имеет права строить свое поведение и свои решения по готовым алгоритмам: это было бы подчинение уже сложившейся системе норм и правил, извне предлагаемых ему. Он не имеет права быть разрушителем, потому что в этом случае он посягает на стержень всеобщего законодательства.
Таким образом, человеку приходится быть осторожным и одновременно смелым, оглядчивым и одновременно решительным; не упускать из виду существенных мелочей. И помня о них, не потерять из виду главное, то есть требование категорического императива. Поистине головоломная задача. И эмпирический человек, решая ее, много раз будет ошибаться, даже если он умеет извлекать из прошлого его основной урок: не наступать дважды на одни и те же грабли. И при этом ему необходимо мужество. Страдая от последствий совершенных ошибок и опрометчивых ходов (часто вина последних связана с неполнотой и намеренным искажением информации), вновь продолжать невидимое миру сражение за сохранение своего нравственного достоинства.
В этой теоретической установке Канта имплицитно представлен сложный путь мучеников из числа лучших людей человечества. Это путь Сократа и Христа, Спинозы и Швейцера, Л. Толстого и А. Сахарова. Как дошли эти личности до жизни такой – остается для социологии таинственным «черным ящиком». Религиозная мотивация в поведении этих людей несомненна, даже если вспомнить, каким рационалистом был в своей профессиональной деятельности создатель советской водородной бомбы. И социологическая мысль вынуждена считаться с загадочностью появления в обществе людей этого типа. Отдавая, вместе с тем, себе отчет, что они внесли существенный вклад в изменение состояния общества и в пути его движения. Такой подход остается вненаучной по существу (хотя и поддающейся рационализации) предпосылкой очередной модели социологического исследования религии.
Было бы ошибочным утверждать, что социология религии бесполезна. Она, безусловно, отслеживает массовые состояния религиозного сознания после того, как они оформились в конфессии, течения, движения, религиозные партии или их фракции. Нет сомнения в пользе социологических исследований экономических тенденций, развертывающихся в религиозной среде. Для России здесь интересны компаративные исследования православных, протестантских, католических, мусульманских, буддийских и иудаистских общин. Показатели культурно-образовательных процессов в среде верующих и их корреляция с традиционалистскими установками, экономическим положением и общественно-политическими претензиями составляет, на наш взгляд, первоочередную задачу в раскрытии особенностей современного состояния религиозных проявлений культуры в России. При этом речь идет, понятно, о массовых тенденциях общественной жизни.
Предыдущие рассуждения о герметичности религии не преследуют своей целью, таким образом, посеять сомнения в полезности ее социологического изучения. Их цель в другом – обозначить некоторые точки человеческого знания, обязательные для социолога религии, приступающего к ее исследованию. Они позволяют выявить более ярко, на мой взгляд, как возможности этого направления научной работы, так и лимиты, которые свойственны в принципе любому направлению научных исследований.
[1] См.: Глаголев В.С. Роль кафедры философии и религиоведения МГУ в развитии отечественного религиоведения / В.С. Глаголев // Религиоведение в России в конце XX – начале XXI в. Кн.1 (1). — М.: ИД «МедиаПром», 2010. – (Вопросы религии и религиоведения : [приложение к журналу «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом»]. Вып. 2: Исследования: сборник). С. 149-154.
[2] Religion today.ru / Баптизм. // Электронный ресурс: http://www.religinstoday.ru/religs-276-10.html (дата обращения 23.07.2013).
[3] Считаю полезным в данной связи обратить внимание читателя на две публикации доктора юридических наук, проф. Б.А. Куркина: Бремя мирного атома. М.: Молодая гвардия, 1990; Оперативное дело «Ревизоръ» (этюды о русской классике). М.: Изд-во Московского государственного индустриального университета, 2011. – 198 с. В этих работах автор проявил, по всей видимости, нереализованные им в преподавательской деятельности незауряднейшие качества вдумчивого и перспективно мыслящего криминалиста, обратившегося к политической и технологической проблематике с одной стороны, и культурологической – с другой. Талант остается талантом, на что бы ни обращал свой взор.
[4] Пылаев М.М. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии XX века. М.: Изд-во РГГУ, 2011. – 216 с.