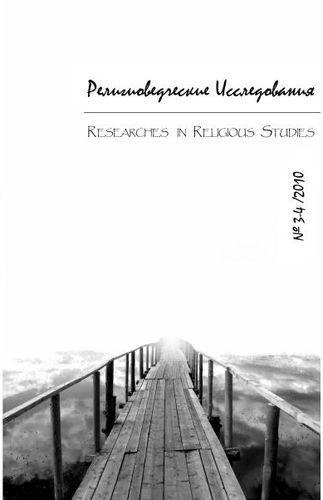Смарт Н. После Элиаде: будущее теории религии // Религиоведческие исследования. 2010: №3-4. — С. 155-163.
Появившееся исследование наследия Элиаде[1] стало поводом оценить его место в будущем теории религии (theory in religion). Я использую это выражение, поскольку в области религиоведения (religious studies) по-прежнему царит смятение, что же все-таки имеется в виду под «историей религии» (history of religions). Дадли выявляет этот факт[2] в отношении споров, занимавших ученых, участвовавших в 10-м Конгрессе Международной Ассоциации Истории Религий (IAHR) в Марбурге в 1960 году. Там была предпринята попытка отделить историю религий от теологии и определенных направлений философии религии, были разработаны основные принципы такого разделения, под которыми поставили свои подписи Элиаде, Джозеф Китагава и Чарльз Лонг. Как мне кажется, простейший путь к разрешению этих сомнений – провести следующие границы.
 Во-первых, существуют различные религиозные традиции и субтрадиции, и одной из форм исследования является изучение частных аспектов определенной традиции. Мы можем назвать его частным изучением (particular studies), которое в контексте истории религий стремится быть свободным от оценок. Однако методы могут меняться в зависимости от обстоятельств: могут привлекаться филология, история, социологические и антропологические подходы, из числа которых особенно важны включенное наблюдение и диалог. Во-вторых, частное изучение различных традиций может привлекать сравнения. Аспекты отдельных историй могут быть сходными. Разумеется, я не говорю о неприятных сравнениях: в научном контексте сравнение не может быть осуждающим. В-третьих, теории религии могут возникать и развиваться в различных направлениях, с востока антропологии, юго-востока социологии, юга психологии, запада религиоведения (Religionswissenschaft) или севера истории. Возможно, некоторые ученые считают, что ни одна общая теория не может соответствовать частным свидетельствам, а кто-то, впадая в крайность, отрицает все сравнения, даже безобидные, не унизительные. Являются ли теории жизнеспособными – проверяется на опыте, но лишь отчасти, поскольку некоторые теории и, по стечению обстоятельств, все плодотворные теории используют ключевые категории скорее в качестве образцов, чем в качестве составных частей универсальных, подобных законам утверждений. Я вернусь к этому вопросу, поскольку он касается рассуждений Дадли об отношении Элиаде к эмпиризму.
Во-первых, существуют различные религиозные традиции и субтрадиции, и одной из форм исследования является изучение частных аспектов определенной традиции. Мы можем назвать его частным изучением (particular studies), которое в контексте истории религий стремится быть свободным от оценок. Однако методы могут меняться в зависимости от обстоятельств: могут привлекаться филология, история, социологические и антропологические подходы, из числа которых особенно важны включенное наблюдение и диалог. Во-вторых, частное изучение различных традиций может привлекать сравнения. Аспекты отдельных историй могут быть сходными. Разумеется, я не говорю о неприятных сравнениях: в научном контексте сравнение не может быть осуждающим. В-третьих, теории религии могут возникать и развиваться в различных направлениях, с востока антропологии, юго-востока социологии, юга психологии, запада религиоведения (Religionswissenschaft) или севера истории. Возможно, некоторые ученые считают, что ни одна общая теория не может соответствовать частным свидетельствам, а кто-то, впадая в крайность, отрицает все сравнения, даже безобидные, не унизительные. Являются ли теории жизнеспособными – проверяется на опыте, но лишь отчасти, поскольку некоторые теории и, по стечению обстоятельств, все плодотворные теории используют ключевые категории скорее в качестве образцов, чем в качестве составных частей универсальных, подобных законам утверждений. Я вернусь к этому вопросу, поскольку он касается рассуждений Дадли об отношении Элиаде к эмпиризму.
Определенный уровень теоретического мышления в изучении религии неизбежен; это вполне очевидно, если мы будем помнить следующее: во-первых, использование общих категорий (таких, как понятия «нуминозное», «жертва», «бог» и т.д.) ставит нас перед проблемами классификации, которая, даже будучи по уровню близкой «собиранию бабочек», пользуясь пренебрежительным сравнением лорда Резерфорда, по-прежнему содержит определенный теоретический компонент; во-вторых, исторические объяснения содержат некоторые теоретические элементы (например, наблюдения за образцами человеческой мотивации, типичные последствия определенных видов опыта и т.д.); и, в-третьих, существует похвальное, хотя и порой опрометчивое стремление увидеть, возможно ли объяснить кросскультурные и иные сходства в области религий.
Поэтому вопрос, который мы можем задать об Элиаде, поскольку он без сомнения создал теорию, – насколько его теория является плодотворной. Прежде чем продолжить это рассуждение, позволю себе сделать некоторые наблюдения. К несчастью, в некоторых областях школы замещают предмет. Школу мы рассматриваем как движение в некоторой области, которое определяет методы, лежащие в основе самой теории, которая сама должна быть открыта для испытания независимыми методами. Кто-то вспомнит скиннеровский бихевиоризм, фрейдовский психоанализ, структурно-функционалистскую социологию и так далее. Поэтому как бы мы не воспринимали теорию Элиаде (сам я нахожу ее плодотворной, впечатляющей и эксцентричной), без сомнения, не следует идентифицировать историю религий с Чикагской школой. Но все это не должно умалять великое и вдохновляющее влияние, оказанное Элиаде и его друзьями на религиоведение в то время, когда это влияние было необходимо.
Теория может приносить различные плоды. Например, она может предложить пути для дальнейшего исследования, и, возможно, это более важно чем то, соответствует ли она некоторой методологической модели, такой, как эмпирическая теория индукции. Приблизительно так рассуждает Дадли, в чем-то опираясь на работы Имре Лакатоса, который, разумеется, в свою очередь испытал влияние попперовской философии науки. Он пишет:
Последние методологические предложения наук ведут в многообещающем направлении. Историки религии могут быть уверены, что всеобъемлющие теории, или исследовательские программы, необходимы в их науке для понимания так же, как они необходимы в естественных науках. Им следует отнестись к предложению Лакатоса серьезно и плодотворно его применить к методологическому оформлению религиоведения (Religionswissenschaft). Эта наука отчаянно нуждается в перевоплощении в исследовательскую программу. Ей нужно ядро, теория, которой можно придерживаться, пока ее возможности не будут раскрыты. Элиаде – один из немногих современных историков религии, который предлагает всестороннюю теорию религиозного поведения и мысли человека. Ядро его системы – утверждение архаической онтологии и транс-сознательного (transconscious), динамики иерофаний, символов и архетипов, а также космизации пространства и времени. Защитный пояс вспомогательных гипотез, которые могут отвергаться или приниматься, включает такие понятия, как мировая ось (axis mundi), мировое древо, иерогамия, аналогия между человеческим рождением и сотворением мира в мифе и ритуале, время праздников, сексуализация мира, ритуальная андрогинизация, празднование Нового года как космогония, оргия и реинтеграция, священные камни как эпифании, совпадение символизма, связанного с луной, во многих религиях, сокрытые небеса (Deus Otiosus), соляризацию высших существ и многие другие.[3]
Возможно, в представлении Дадли защитный пояс становится чрезмерно сильным – поясом целомудрия, так сказать, предотвращающим плодотворность. Он отмечает, что критика Личем (Leach) Элиаде относится к этому уровню, и именно на этом уровне Элиаде может делать уступки и уточнения. Такое понимание содержательно близко к признанию того, что теория Элиаде отвечает любыми эмпирическим свидетельствам в качестве наполнения его схемы. Такая нефальсифицируемая теория едва ли могла бы стать основанием для передовой исследовательской программы. Однако для начала поставим вопрос, чего следует ждать от теории, подобной элиадовской.
Во-первых, она предлагает грамматику религиозного и иного символизма. Я говорю «и иного» по причине, которая мало обсуждалась как Элиаде, так и его критиками. Процесс систематизации мировоззрений во многом основывается на случайности, и часто это вопрос соглашения – предоставлять изучение, к примеру, марксизма, политологам, а изучение, к примеру, буддизма – религиоведам (religionists). Разумеется, можно утверждать, что чувство трансцендентного и священного отличает религиозные мировоззрения от других, однако само по себе это не должно приводить к разделению наук (не более чем отличия между мужчинами и женщинами должны приводить к дифференциации мужской и женской биологии). К несчастью, в английском языке не существует простого выражения, охватывающего практические и экзистенциальные мировоззрения, как религиозные, так и секулярные. Нуждаясь в лучшем термине, я все же буду говорить о «мировоззрениях». Более точное выражение может разрушить имеющуюся тенденцию к пренебрежению мифическим и символическим аспектами секулярного поведения, или к сведению их, что до некоторой степени типично для Элиаде, к фрагментарному отражению более полнокровной символической жизни традиционных религий. Разумеется, частью теории символического поведения может являться ее врожденность личности, бессознательное распознавание символов. Символы, выходящие на поверхность, меняют свой род. Таким образом, оказывается, что светские люди просто заблуждаются, считая, что символическая жизнь процветает лишь в рамках религии, а мифическое связано лишь с архаическим, а не современным взглядом на мир. (Однако современность является частью мифа о современном человеке). Поэтому я утверждаю, что теория, подобная элиадовской, должна предлагать грамматику символического поведения, относится оно к традиционным религиям или нет.
Но здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что базовой полярностью в элиадовском исследовании религиозного символизма была дихотомия сакральное-профанное. Как отмечает Дадли, Элиаде с одобрением цитирует Рожера Гэлуа (Roger Gaillois): «единственно полезная вещь, которую можно сказать о сакральном, содержится в самом определении понятия: это противоположность профанного». Здесь возникает вопрос, не является ли религиозная полярность примером более широкой полярности между тем, что вызывает позитивный эмоциональный заряд и тем, что не вызывает. Символическое мышление человека связано с эмоциями, поскольку мировоззрение «придает смысл» космосу и месту человека в нем; ведь оно помогает выявить системы значений, значение же всегда связано с чувством достоинства (worth), а это сфера эмоций. Рассмотрим, напротив, идею, что некоторая деятельность человека кажется бессмысленной. Для большинства американцев и многих других народов игра в крикет лишена смысла не только из-за неочевидности правил, но и потому, что необходима некоторая инициация, чтобы увидеть в этом занятии красоту, волнительность и самодостаточность.
Поэтому представляется оправданным использовать понятие силы, вселяющейся в вещи, людей и т.д., силы, переделывающей людей изнутри, меняющей их чувства. Здесь я опираюсь на подход ван дер Леу, хоть и расширяю рамки его исследования, выходя за пределы религиозных мировоззрений. Вкратце, я бы предположил, что нам не следует начинать с противопоставления сакрального и профанного как отправной точки систематической феноменологии или, как я ее называю, грамматики религии. Кроме того, некоторые черты элиадовского подхода к сакральному вызывают вопросы. Позвольте мне более четко выразить свои идеи, кратко очертив сущность грамматики религии, которая, может быть, окажется более содержательной, чем у Элиаде.
Человек или вещь, обладающие эмоциональным зарядом, который я назову субстанцией (substance), могут находиться в контакте с другими, сам по себе подобный контакт может быть ритуалом в широчайшем смысле слова или, используя термин Дж.Л. Остина (J. L. Austin), перформативным актом. Такой контакт может пониматься как позитивный или негативный, как благо или угроза. Если бы меня представили какому-то великому герою, например, Пеле, скажем, рукопожатие стало бы своего рода благословением: моя субстанция выросла бы от крошечного контакта с этим героем. Латинское hostis означает одновременно незнакомца и врага. Отношения с незнакомцем могли нести угрозу, а гостеприимство являлось ритуальной мерой для установления позитивных отношений с незнакомцем и тем самым получения чего-то положительного от его присутствия. Если по какой-то причине человек достаточно силен, у него может быть эмоциональное преимущество, состоящее в уменьшении субстанции другого человека с помощью таких ритуалов, как оскорбления, заносчивость и (как крайняя степень) физические мучения.
Субстанция существует в форме слоев. Моя собственная субстанция накладывается на такие слои как национальная идентичность (я ритуально участвую в субстанции Шотландии). Затем я участвую в профессии преподавания, особенно в религии и философии, поэтому часть моей субстанции зависит от ценности профессии. Отчасти она зависит от моего места в ней, то есть от репутации, которая дает своего рода право на управление субстанцией других людей. Кому-то покажется, что исследование человеческого поведения с этой позиции запутывается в процессах сохранения или увеличения индивидуальных субстанций.
Поскольку передача субстанции по сути является ритуальной процедурой, грамматика ритуала как такового становится чрезвычайно важной, а именно то, как открывается доступ к субстанциям прошлого и будущего, а также субстанции, существующие в других местах, не говоря уж о тех, которые отделяют время и пространство.
Еще один аспект общей теории связан с отношениями между категориями, которые дифференцируют субстанции. Чем больше эмоциональный заряд, тем более важными могут быть границы вокруг понятия, поскольку для передачи заряда в благоприятной форме необходим должный ритуальный ответ. Подобным образом, когда бытие подвергается ре-категоризации, становится важна чистота ритуала, в частности, обрядов перехода. Поскольку передача субстанции связана с проблемой создания родственных связей (affinity), большинство ритуалов включают в себя вступление в родственную связь с теми, кому человек ранее противостоял. По этой причине необходимо очерчивать перформативные границы в отношении того, что обладает властью, в частности, сакрального. Возможно, нам не нужно начинать с противоположности сакрального и профанного как предельной, но видеть ее в контексте более широкой теории эмоциональных зарядов и их ритуального сопровождения. Как мне кажется, что бы современная наука ни говорила о мгновенности событий и несущественности вещей, когда речь идет о чувствах, люди действуют согласно тому, что переводчики Леви-Брюля назвали «мистическим участием» (mystical participation). Иными словами, возможно, Платон в своей теории идей отразил эмоциональность нашего мышления, а не то, как нам следует мыслить в рамках научного исследования. Возможно, нам следует даже остерегаться такого субстанциального мышления относительно того, что порождает наши чувства и ритуалы; возможно, буддистская критика субстанции является правильной и в отношении «природной» эмоциональной жизни человека.
Разумеется, опора Элиаде на противоположность священного-профанного порождает различные элементы его теории. Сакральное понимается им онтологически: то, что воспринимается в качестве сакрального в иерофании, отражает архетип, свидетельствующий об изначальной онтологии, которую Элиаде характеризует как парменидовскую (реальность вечна и неисчерпаема), платоновскую (архетипическую) или индийскую (преходящий опыт есть иллюзия). Отношение ко времени, разумеется, пронизывает всю теорию мифа и истории Элиаде.
Теория Элиаде является в своем роде философской и умозрительной. В этом, разумеется, нет ничего плохого, и иногда даже хочется, чтобы большее число историков религии в своих теориях были смелее. Однако существует множество и множество теорий, а также стоящих за ними намерений. Как мне кажется, проблемы возникают там, где теория в действительности является выражением мировоззрения. Например, в прошлом существовали ученые, которые вели сравнительное исследование религии с позиции христианской теологии, таковы работы Фаркера (Farquhar) «Корона индуизма» (The Crown of Hinduism), «В разные времена» (At Sundry Times) Ценера (Zaehner), «Христианское послание в нехристианском мире» (The Christian Message in a Non-Christian World) Кремера (Kraemer); были и другие, стоявшие на других религиозных позициях – вспомним работы Радхакришнана и других современных индийских мыслителей, в которых христианство и другие религии рассматриваются с индуистской, а именно ведантической точки зрения. Но, разумеется, такие в сущности теологические источники являются предметом истории религии, а не ее изложением. Означает ли это, что следует избегать любых интерпретирующих теорий? Как провести грань между теологией и элиадовской философией?
Отчасти – это вопрос свидетельств, и отчасти – намерений. Явленные и авторитетные духовные заявления не считаются фактами, лежащими в основе теории религий. То есть, они не должны доказывать свое право быть нормативами для исследователя, поскольку у них нет такого права. Но в другом отношении теория должна проверяться свидетельствами: здесь Дадли отмечает, безо всякого снисхождения, свободное обращение Элиаде с материалами, например, из Нового Завета и мифологии зуни. Обвинение в фактических ошибках (плохая история, плохая этнология и плохая психология) была и частью яростной атаки Эдмунда Лича на Элиаде в периодическом издании «The New York Review of Books». Я не считаю, что Элиаде следует освободить от ответственности за то, что он порой чрезвычайно избирателен по отношению к своим источникам. С другой стороны, он, несомненно, собрал впечатляющие символические комплексы, в особенности в своих работах о йоге и шаманизме.
Стоит добавить, что Гилфорд Дадли прекрасно демонстрирует упование Элиаде и его апологетов на сотериологию, которая освободит людей от «ужаса истории», здесь Элиаде становится своего рода гуру. Однако, глядя на теорию Элиаде с точки зрения религиоведения (study of religion), и, в целом, гуманитарных наук, важно отметить, что он получает значимые результаты, используя некоторые ключевые понятия, которыми следует пользоваться религиоведу (religionist). Как мне кажется, здесь он открыт для критики. Я покажу это на примере его анализа мифа и знаменитого illud tempus (время оно). Здесь будет небесполезно воспроизвести отрывок, приводимый Дадли.[4]
Простое изложение мифа приводит к вторжению сакрального, вне зависимости от вида нарратива:
Именно этот прорыв священного в мир, рассказанный в мифе, и является реальным основанием мира. …Повествуя о том, как вещи возникли, миф объясняет сущность этих вещей и косвенно отвечает на другой вопрос: почему они появились на свет? «Почему» всегда встроено в «как». И причина этого весьма проста. Рассказывая о том, как зародилась та или иная вещь, открывают вторжение священного в Мир, что является первопричиной всякого реального существования.[5]
Некоторые вещи очевидны. Во-первых, рассказывание мифа является видом ритуального акта. Действительно, одна из распространенных ошибок работ по истории религии, посвященных мифу, состоит в том, что в них история (записанная, зафиксированная, и поэтому конкретизированная) отрывается от ритуального рассказывания. Нельзя разделить природу мифа от его использования (поэтому тот же сюжет может встречаться в сказке или легенде). Элиаде прав, рассматривая миф как ритуальную передачу определенного рода силы (power). Однако возникают два вопроса: во-первых, правильно ли он заключает, что ритуальное повторение мифа актуализирует illud tempus? Второстепенный вопрос здесь: прав ли он в таком жестком противопоставлении мифического и исторического времени? Во-вторых, насколько справедливо приведение всех мифов к космогоническому паттерну?
Сейчас эти вопросы совершенно запутаны, хоть, я признаю, время ведет к усложнению. Дадли, интерпретируя Элиаде, пишет:
Ритуалы не только обновляют людей, но и обновляют само время. Новогодние ритуалы подразумевают возвращение во время оно, в самое начало космогонического акта.[6]
Воспроизведение ритуала, безусловно, открывает нам то, что произошло в прошлом. Рассмотрим его логику. Проще всего это будет сделать на знакомом примере Пасхи. Простейшая версия пасхальной истории, воспроизводимой на празднике: «Христос Воскресе!». Что произошло однажды, существует и в другой день. Можно сказать, что произошло в другом месте, оказывается доступно и здесь. Тот факт, что место может быть репрезентировано, не означает, что первоначальное пространство в буквальном смысле пространством не является. В действительности многие люди оперируют следующими пространствами (spaces): собственный участок (area), затем уровни более неопределенных пространств за пределами этого участка, и наконец непознаваемый предел этого мира; в вертикальном разрезе выделяются небеса (или несколько их уровней), с кульминацией в раю (heaven), своего рода пара-пространство (para-space). Проще говоря, мы имеем дело с определенным пространством (definite space), неопределенным пространством (indefinite space) и трансцендентальным пространством (transcendental space). По определенным причинам между пространством этого мира и трансцендентальным пространством может быть проведена жирная линия. Кто-то может попытаться подобным образом поделить и время. Из этого не следует, впрочем, что поскольку одно событие репрезентуется другим в более поздний момент, первое время не является буквально временем (датированным). Может быть, какие-то даты являются просто более наполненными (charged), чем другие. Был ли архиепископ Ашшер в корне не прав, а кто-то скажет, что глуп, когда датировал творение 4004 годом до н.э.? Проблему вызывает тот факт, что творение описывалось как произошедшее до всевозможных доисторических и исторических событий, а «до» подразумевает дату. Или, по меньшей мере, принадлежность неопределенному отрезку времени, который лишь примерно дает датировку. Пока я не вижу особой причины резко отделять illud tempus от более позднего поддающегося датировке времени. Еще меньше причин исключить из области мифа или священной истории те рассказы, которые относятся к определенным датам (будь то осада Трои или воскрешение Иисуса). Раз функционально история рассказывается в ритуальном контексте для ре-презентации оригинального события, то эта история, с моей точки зрения, должна рассматриваться как миф. Пасхальная история попадает в эту категорию.
Но, разумеется, космогонии описывают истоки, начала. Почему истоки важны? Здесь мы затрагиваем важную часть архетипического значения мифа творения, укоренного в illud tempus. Любое «первое» означает, что в высшей степени значимый переход с одного уровня на другой становится прототипом (например, первый человек на Луне, первый автомобиль, и т.д.), и ритуально воспроизводя это «первое» люди чествуют весь тип вещей или явлений. Также с ритуальной точки зрения, если B вызвано A, оно разделяет с A его силы. Но творение – процесс диалектический. Когда Бог создает человека (например), необходимо признать два факта истинными: во-первых, человек до определенной степени подобен Богу, поскольку суть свою он получил от Него: но он не похож на Бога, поскольку, помимо прочего, он создан как человек, имеющий лишь ему свойственную особенную суть и определение. В целом, творения есть смешение хорошего содержания, полученного от Творца и их собственных природ. Следовательно, чертой празднований Творения является изображение первоначальных сущностей мира. Однако из этого не следует, что все мифы архетипически являются космогоническими. Следует лишь то, что мифы, прославляющие перемены, имеют сходства с мифами творения.
Поскольку эти новые переходы (transitions), экзистенциально заряженные события и т.д. могут происходить и в поддающееся датировке время, нет исходного противопоставления между архаическим взглядом на мир, выраженным в космогонических мифах, и переживанием линейности истории. В любом случае, здесь наблюдается смешение двух представлений о повторении времени. В одном события повторяются космически, как в индийской теории кальп. В другом – единичное событие повторяется ритуально. К примеру, в христианской традиции однократные последовательные события повторяются литургически.
В своем исследовании Дадли сравнивает Элиаде с Фуко, так как оба автора, по его мнению, считают историческое сознание современного человека мифологическим по природе. Что касается Элиаде, это сомнительный способ выражения его взглядов на историю. В любом случае, необходимы некоторые уточнения. С одной стороны, занятие историей – предприятие, во многом зависящее от техники исполнения. С другой стороны, оно является средством расширения осознания прошлого культурой, как собственного, так и всей планеты. Как таковое оно возвращает нас к временнóй точке зрения. Как утверждает Фуко, современная увлеченность историей приводит к иному, а именно к копированию образцов прошлого; здесь, я полагаю, нам необходимо пристально присмотреться к мифологическому образу истории, так как события и движения в историческом процессе несут с собой дух экзистенциальной значимости. Они «значат» что-то для нас. Примечательны диалектические подходы к истории Гегеля и Маркса, но даже восхищение Толстого беспорядочными и постоянно изменяющимися путями истории имеет мифологический характер. Разумеется, и Гегель, и Маркс имели дело с предельными обобщениями, а не считали события плодом действий божественных персонажей и т.п., как подобает мифологическому жанру. Но может показаться, что марксистская история соответствует метафизическим представлением о творении так же, как история спасения соответствует книге Бытия. В последнем случае мы имеет дело с мифом об искуплении, в котором участвуют божественные персонажи и сознательные акты, в сравнении с мифом творения, в котором участвует одна личность и ее деяния. В первой же паре мы сталкиваемся с метафизической историей – своего рода танцем абстракций, но двигающимся во времени – по сравнению с диалектическим разворачиванием Единого (например), как его описывает Плотин.
Удивительно, что Элиаде почти наивно полагает историзм типичным продуктом тех народов, «для которых история никогда не была непрерывным ужасом. Возможно, эти мыслители приняли бы другую точку зрения, если бы принадлежали к нациям, отмеченным “фатальностью истории”»[7]. Здесь мы видим румынские корни Элиаде. На этом следует остановиться чуть подробнее. Элиаде можно в каком-то смысле считать румынским народником. Его философия, обосновывающая историю религий, имеет экзистенциалистские корни (его отношение ко времени в чем-то испытало влияние Хайдеггера), в то время как его теория транс-сознания и теория архитепических символов родственны идеям Юнга. Но за ними стоит запретный лес архаической Румынии. Румынский опыт имеет свои особенности: народ, говорящий на латыни, состоящий из дакийцев и римских колонистов, который фактически исчез из письменной истории на тысячелетие, затем, вернувшись по-прежнему латинским по языку, но православным по обряду, он хранил свою идентичность крестьянской верностью литургии в долгие периоды иностранного владычества. Идентичность означает непрерывное возвращение к менее историческому прошлому. Поездка Элиаде в Индию в юности вела его в направлении, увлекшем румынскую интеллигенцию, которая многому была обязана связям с Францией, и которая имела несколько опасные (в период между войнами) контакты с немецкой идеологией. Различными путями интеллигенция и рабочие увлеклись центральноевропейским историзмом: рабочих марксизм привлек меньше, чем идеи освобождения, а румынская коммунистическая партия была вынуждена прийти к соглашению с Советами. Для Элиаде, возможно, крестьянский дух румын, с его неумолимым пылом религиозной веры, становится спасительным фактором. Сама теория Элиаде функционирует как миф, «придающий смысл» румынскому опыту.
Подход Элиаде – через архетипы – не только включает взгляд на время, который обесценивает историческое сознание, он, помимо того, в чем-то а-историчен. Гилфорд Дадли называет его «антиисториком религий»[8]. Однако существуют диахронические процессы, которым, согласно Элиаде, можно уделять внимание: стремление конкретного символа соответствовать своему архетипу основывает подобный закону принцип, посредством которого историк религии может показать развитие религий. Такое понимание задач исследователя кажется довольно узким.
Во-первых, возможно историческое исследование массы частностей в истории религий. Во-вторых, возможно понимание не только синхронических, но и диахронических типов. Поэтому плодотворным может быть поле исследования различных видов столкновений разных видов культур – например, так называемая Белая граница (White Frontier), как называют линию между западной культурой и технологией с одной стороны и разнообразными традиционными культурами «третьего мира» с другой. Существуют четкие типы или паттерны реакции. Такое исследование выходит за рамки тенденции к универсальности, о которой говорилось выше. В-третьих, возможно построение грамматики религии, в которой формулируется взаимодействие между разными типами символов и формируется общая теория. Далее, для действенного исследования религиозной истории необходимо оценить, какие религиозные факторы формируют ситуацию (подобно тому, как в исследовании истории экономики распознаются экономические факторы). Затем должна быть проанализирована их связь с прочими факторами. Грубо говоря, иногда религия является доминирующей силой, а иногда ее подавляют нерелигиозные факторы. Такой анализ поможет прояснить тот факт, что религия во многом влияет на человеческую историю. Как мне кажется, недостаток подхода Элиаде заключается в том, что он пытается игнорировать антропологические, социологические и экономические роли религии, отчасти потому, что он считает научное направление исследования в высшей степени редукционистским. Это справедливо, что редукционизм и (родственный ему) проекционизм играли решающую роль в анализе религии XIX и XX веков, в особенности для исследователей общества (social scientists); но логично предположить, что изучающий религию должен методологически быть агностиком, как я уже неоднократно заявлял[9]. Это значит, что его подход к исследованию объектов религиозного опыта и верованиям не должен зависеть от того, существуют ли они, являются ли они истинными.
Нам не нужно решать, действительно ли Аллах открыл Мухаммаду что-либо, чтобы увидеть, что Аллах повлиял на сознание Мухаммада и тем самым изменил курс человеческой истории. Нейтральный подход к так называемым социальным наукам (social sciences) возможен, и ему под силу объять и феноменологическую историю религий. Поэтому религиовед (religionist) по меньшей мере отчасти занимается объяснением, поскольку сама попытка различить внутренние и внешние факторы (то есть внутренние и внешние по отношению к религиозному фактору или, в целом, к неотъемлемым факторам символической жизни) означает возможность показать, как эти две стороны взаимодействуют и как в таких понятиях объяснить историческое развитие. Таким же был, грубо говоря, метод Макса Вебера. Здесь понадобится определенная доля смелости – в нашем странном мире экономическая жизнь (сама по себе наполненная символами) воспринимается многими как предмет серьезного научного исследования, а изучение религиозных и других форм символического поведения часто считается делом частным. С точки зрения социальных наук, религия является одним из наиболее важных объектов изучения в научном сообществе. При всем моем восхищении и работами Элиаде, и тем, как он способствовал развитию истории религий, мне жаль, что его творческая герменевтика в конце концов оказывается ограниченной – являясь проводником определенного мировоззрения, средством придания жизни архаическому религиозному символизму человека, все же она оказывается не способна решить более широкую объяснительную задачу (explanatory task), которую религия может и должна решать.
Итак, возможно, Гилфорд Дадли, провозглашая общую теорию Элиаде исследовательской программой, совершает недостаточно смелый шаг в сравнении с тем, который надлежит сделать, чтобы продвинуться дальше, чем удалось Элиаде.
[1]Dudley G. Religion on Trial: Mircea Eliade and His Critics. –Philadelphia:TempleUniversity Press, 1977.
[2] Ibid. – P. 21-25.
[3] Ibid. – P. 126.
[4] Ibid. – P. 72.
[5] Элиаде М. Священное и мирское. / Перевод с французского, предисловие и комментарии Н. К. Гарбовского. – М.: Издательство Московского университета, 1994. – С. 64.
[6] Dudley G. Op. cit. – P. 77.
[7] Ibid. – P. 71; Дадли цитирует «Миф о вечном возвращении»: Элиаде М. Космос и история: Избранные работы. / Перевод с французского и английского. – М.: Прогресс, 1987. – С. 136.
[8] Dudley G. Op. cit. – P. 148.
[9] Это основная тема моей работы «Наука о религии и социология знания» (Smart N. The Science of Religion and the Sociology of Knowledge. – Princeton: Princeton University Press, 1973).
Перевод с английского языка выполнен К.А. Колкуновой по изданию: Smart N. Beyond Eliade: The Future of Theory in Religion // Numen, Vol. 25, Fasc. 2 (Aug., 1978), pp. 171-183.