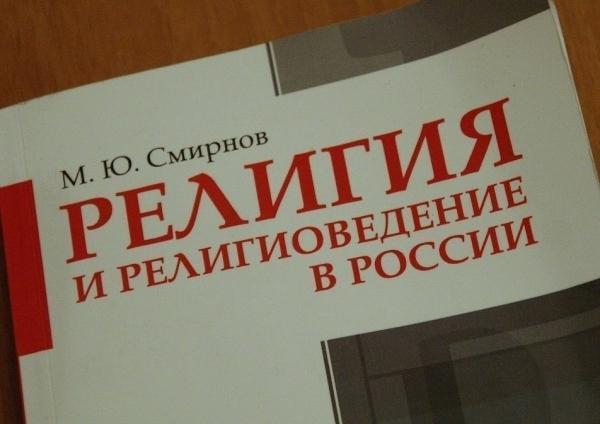Материалы подготовлены по гранту РГНФ №13-03-00497, «История отечественного религиоведения: XX — начало XXI вв.»
Наука о религии советской эпохи представила впечатляющий список идей, открытий, имен выдающихся деятелей науки, научных школ и институций. В этих рамках определенным образом формулировались вопросы, проектировались исследовательски
В целом, мне представляется, что при современном состоянии отечественного религиоведения изучение истории религиоведения имеет для нас критическое значение. В нашем стремлении к самоопределению мы не можем не соотноситься с нашей историей: наше понимание того, что такое религиоведение и кем являемся мы сами в качестве религиоведов, определяется нашим понимаем истории этой науки и наоборот, наше понимание этой истории определяется нашим пониманием того, кем являемся мы сами2. По ряду причин обращение к изучению советского этапа в истории отечественной науки о религии представляется особенно важным.
Прежде всего, эта эпоха непосредственно предшествовала нам во времени. Как эпоха в жизни русской культуры и русской мысли, она оказала и продолжает оказывать невероятно мощное и не вполне нами осознаваемое воздействие на наше сознание и наши социальные практики, властно определяет как сознание религиозных людей, так и сознание людей, изучающих религиозность, а также формы взаимодействия между первыми и вторыми. Существенной проблемой является, на мой взгляд, то положение дел, что наши оценки (позитивные, либо негативные) этого влияния как правило предшествуют конкретным исследованиям его направленности, характера и формы. Они основываются только на наших собственных непроясненных интуициях и предпочтениях идейного, политического или социального характера и тем самым транслируют его влияние на уровне само собой разумеющихся представлений и предвзятостей. Даже если указанное влияние целиком позитивно (а в этом есть веские основания сомневаться) — для науки такая непроясненная зависимость скорее вредна.
Представляется истинным, что советская власть сформировала такую государственную идеологию, которая, используя ресурсы отечественной философии, науки, искусства, средств массовой информации существенным образом формировала мировоззрение и мироотношение «советского человека». Существенно при этом, что далеко не всегда это воздействие имело именно те последствия, к которым сознательно стремилась власть. Общеизвестность этой истины такова, что ее похоже не очень принимают всерьез. Между тем, вопрос о том, как конкретно осуществлялось и в чем проявлялось это формирование в рамках тех или иных частных научных дисциплин и соответствующих этим дисциплинам фрагментов жизненного мира представляется отнюдь не праздным вопросом. В случае же религии и науки о ней речь идет о проблематике, заботу о которой сама же власть той эпохи полагала для себя одной из первоочередных3. Предположительно это может означать, что все особенности взаимодействия власти и знания, характерные для советской эпохи, проявятся здесь наиболее ярко и характерно.
Нельзя сказать, что исследования в этом направлении вообще не ведутся. Они носят, однако, в целом, скорее фактографический и ситуативный характер, внятной и методологически продуманной программы таких исследований, направленной не на фиксацию имен, идей и достижений, а на выявление специфики и проблематичности сложившейся ситуации, не существует4. Представляется, однако, что можно указать несколько стихийно сложившихся оппонирующих друг другу подходов, каждый из которых определяется специфическим восприятием советской эпохи в целом, и, в большей или меньшей степени, служит основанием для возможной программы исследования истории науки и, что представляется особенно важным, связанным с нею проектом дальнейшего развития самой отечественной науки о религии.
С этой точки зрения в современной литературе можно наметить несколько позиций.
Отметим во-первых, требование радикального разрыва с «советским религиоведением»
С конфессиональной точки зрения, сложившейся еще в саму советскую эпоху5, религиоведение этого времени предстает как «научный атеизм», заведомо неадекватно трактующий религиозное сознание и деятельность, ставящий своею целью, прежде всего, борьбу с религией в перспективе ее конечного уничтожения. Прежде всего, следует признать значительную степень правоты, присущей этому подходу. Советские религиоведы действительно видели смысл изучения религии в ее критике и борьбе с нею. Однако, серьезным ограничением аналитических возможностей этой позиции является тот факт, что ее представители концентрируют свое внимание на полемике с исходным мировоззренчески
Данный подход может в свою очередь осуществляться различными путями: как тотальное отрицание, либо (чаще) как отрицание теоретического фундамента, при частичном признании достижений в области фактографии, в особенности там, где она не связана непосредственно с христианством. Возможно также частичное восприятие как содержания, так и методологических приемов критики, направленной в адрес нехристианских религий и новых религиозных движений6.
Проективно такое восприятие, как мне кажется, тесно связано с идеей «православного религиоведения», в рамках которого, при сохранении общей структуры отношений, элемент «научный атеизм» заменяется элементом «православное богословие», которое само получает при этом в целом ему несвойственное специфически идеологическое оформление.
Либеральный подход отрицательно относится к советской науке на основании прежде всего самого факта присутствия в ней «научного атеизма» как идеологической инстанции. В своей сильной (в наши дни довольно редко встречающейся форме) он также как и предыдущий склонен к тотальному отрицанию произведенного советскими учеными знания, однако основой этого отрицания является не содержание исходного атеистического тезиса, а сама его «идеологическая» форма. В менее радикальном виде он строит историю науки в соответствии с не вполне продуманной формулой М. Фуко «интеллектуалы и власть» (интерпретируемо
Здесь опять-таки следует отметить, что этот подход, несмотря на некоторую «романтичность», оказывается способен вскрыть важные механизмы, определявшие работу «советской науки» в ее так сказать «пограничных» (в разных смыслах этого слова, в том числе и в географическом, если говорить о Тартусской школе и акад. Б.Л. Смирнове8, напр.) областях. Конфликты выдающихся ученых, преодолевавших так или иначе идеологический диктат, порой пытавшихся создавать институты науки, более или менее автономные от власти, с господствующим аппаратом, прежде всего, бюрократическим, действительно были важной составляющей истории, однако их полноценное понимание вряд ли возможно, если мы не уясним себе принципов функционирования самого этого аппарата и официальной советской науки, как его существенной составляющей. Тем более, что складывавшиеся между ними самими отношения были отнюдь не простыми9.
Кроме того, провозглашаемая на словах неангажированнос
На основе данного восприятия возникает проект религиоведения как «объективной» науки, преимущественно эмпирической, свободной от философского диктата, существующей как независимая, самоорганизующая
Тем самым здесь практически предопределен конфликт с предыдущим проектом, который рассматривается (и небезосновательн
Значимую альтернативу обоим обозначенным выше позициям представляет подход, провозглашающий преемственность по отношению к советскому этапу, указывающий на его значимые научные достижения, т.е. так или иначе реабилитирующий советскую науку с точки зрения ее научности. В сильной форме он вообще склонен рассматривать советскую науку как «нормальную», а все последующее как деградацию и упадок. В более слабой — он, признавая «идеологические перегибы», вновь, но уже с других позиций акцентирует сложность отношений «настоящих ученых» с тогдашней властью11. Здесь естественно признается, что любая наука так или иначе привязана к той или иной идеологии (принцип «партийности»), «объективность» представляется некоторым фантомом (так же идеологического происхождения), а в качестве критерия успешности признается так или иначе понимаемая «результативност
Следует отметить, что и этот подход имеет за собой значительную степень оправданности. Не подлежит сомнению, что советскому религиоведению удалось достичь высокой степени институциализаци
Недостатки этого подхода однако в целом определяются достоинствами предыдущих. Парадоксальная конфликтность научной дисциплины и предмета ее изучения, репрессивный характер описанных структур, а вместе с ними — специфический характер советской науки, как социального и духовного образования, — здесь выпадают из поля зрения. Признание нормальности сложившейся ситуации заставляет объяснять поголовное отторжение этой науки в читательском и студенческом сообществе с точки зрения злой воли самих отторгающих или происков сбивающих их с толку злых сил.
В соответствующем проекте упор делается в большей степени на институциональны
Отношения с вышеописанными проектами складываются довольно сложно. С одной стороны, очевидное противостояние с проектом «конфессионально
Тем самым, как представляется, можно говорить о корреляции намеченных выше трех моментов: отношения к религиоведению советского периода, программы изучения его истории и, наконец, программы дальнейшего развития этой науки.
Представляет интерес тот факт, что все три подхода, при всех их разногласиях, используют в той или иной форме одну и ту же по существу модель отношений «ученый — власть». В заключение данного обзора представляется не лишним дать ей некоторую обобщенную характеристику. Ее существенной особенностью является представление об этих отношениях, как чисто внешних: власть осуществляет идеологический прессинг, которому ученый (если он настоящий ученый) по мере сил сопротивляется. Например, во вполне академический текст он внешним образом вставляет идеологически насыщенные фрагменты, которые могут быть легко опознаны и исключены компетентным читателем, участвующим в той же игре с властью, что и автор, а равно и историком науки, которому надо только подобрать не очень сложный ключ к этому шифру. Более сложный вариант «эзопова языка» представляют тексты, в которых идеологемы призваны передавать смысл ровно противоположный предполагаемому в них представителями власти. Такие тексты, помимо чисто академического несут и публицистический заряд: они призваны выводить сознание читателя за рамки идеологии, расшатывать ее основания.
Несомненно, такие игры ученых с властью имели место в советскую эпоху. Столь же несомненно, однако, что такая концепция не исчерпывает эти отношения и даже не добирается до их сути, создавая представление об истории науки, которое нельзя назвать иначе, чем мифологическим.
Этому представлению может быть адресован следующий ряд вопросов, поиск ответа на которые, как представляется, должен вывести исследователя за его пределы: всегда ли возможно провести четкую границу между «идеологическими
Постановка этих вопросов предполагает необходимость разработки более эффективной аналитической методологии. Представляется, что общей предпосылкой всех трех подходов в многообразии их вариантов, является проводимый ими более или менее сознательно принцип «субъектности», в соответствии с которым основной упор делается здесь на личности, их идеи, их личное отношение к власти и идеологии, их личную порядочность, их авторскую ответственность по отношению к производимым ими текстам, их добрые или злые намерения и т.д., а не на определяющие их, транслируемые через них даже против их воли более общие структуры языка, сознания и формы отношений.
Здесь представляется уместным вспомнить об указанной М. Фуко корреляции, существующей между принципом субъекта и идеей непрерывности истории14. Легко увидеть, что применение этого принципа дает во всех случаях иллюзорное представление о непрерывности в развитии отечественной науки о религии, преемственности между ее основными этапами, кумулятивности производимого на этих этапах знания. Даже отрицая и критикуя те или иные аспекты советского наследия и даже все это наследие целиком, мы выстраиваем определенные логики непрерывности, не обращая внимания на сущностные трансформации дискурсивных практик науки о религии, сопровождавшие его (этого наследия) становление и падение и, вместе с тем, недооцениваем так сказать «последействие» этих практик, степень их включенности в современный контекст. Происходит это вследствие того, что указанные практики мыслятся нами как принадлежности некоего по существу стабильного субъекта сознания, члена стандартным образом организованной интерсубъективно
С этой точки зрения, предложенная в свое время Р. Бартом и М. Фуко идея «смерти автора», понятая как методологический принцип, окажется гораздо более уместной и продуктивной при изучении этого этапа истории науки о религии, чем принцип субъектности. Из этого вытекает предложение деперсонализиров
С предложением деперсонализации связано и предложение, по крайней мере временной и частичной, деэтизации (точнее, м.б. трансформации этической составляющей) истории науки. Связано это предложение с тем, что вне и помимо анализа советской «эпистемы» («формации дискурса») как некоторой целостной системы, включающей в себя набор и соотношение основных категорий, риторических фигур, их прагматики (т.е. воздействия на сознание читателя), характерных отношений власти, специфики их воздействия на формируемый ими научный дискурс и т.п. аспектов — адекватно оценить этическую составляющую событий этой истории представляется вряд ли возможным — она неизбежно примет тот поверхностный морализирующий, отвлекающий от действительных проблем характер, который она принимала уже не раз в рамках шестидесятническ
Представляется, что последовательное и сознательное применение этих принципов даст возможность обнаружить и описать имеющие место в истории отечественной науки о религии разрывы, нестыковки и перебои; ввести момент прерывности15 в фокус исследования, выявить его проблематичность
Такое исследование, предварительно говоря, может двигаться по нескольким магистральным линиям:
1. Точки отсчета и процесс формирования само собой разумеющихся предпосылок советской науки о религии.
2. Общая концепция истории религиоведения (включающая отношение к современным соответствующей эпохе концепциям), господствовавшая в советскую эпоху: ее основные предпосылки, заложенное в нее общее представление о ценности научного знания, фигуры полемики, присущая им прагматика — транслируемые через них основные ценности, направление, в котором она призвана формировать сознание читателя; основные варианты этой концепции.
3. Общие представления о соотношении власти, мировоззрения (и идеологии, как его частного случая) и науки: ценностные предпосылки, варианты.
4. Общее, транслирующееся на уровне само собой разумеющихся представлений и предпосылок понимание своего предмета (религии), его места и роли в истории человечества, связанное с этим понимание общественной роли науки о религии, ее смысла и ценности. Внутри- и вне-научные истоки этого предпонимания.
5. Базовые элементы категориальной структуры и соотношения между ними (в том числе система само собой разумеющихся ценностных предпочтений), а также формы их внедренности в научный дискурс. Например: вера/знание, прогресс/реакция
6. Соотношение представлений с практиками, их взаимовлияние и взаимоопределени
В связи со сказанным выше о деэтизации и деперсонализации кажется принципиальным принять, в качестве основного критерия оценки — прагматическое влияние тех или иных установок на собственно научный дискурс — влияние конструктивное или деструктивное, вообще его характер и своеобразие.
Попытаемся схематически наметить исходные точки, сформировавшие это «само собой разумеющееся» советского религиоведения:
1. Эпоха Просвещения, причем в ее радикальном «французском» варианте: религия в целом понимается как пред-рассудок, как суе-верие, как традиция, нечто не просто противоположное разуму, но оппонирующее рационализации как прогрессу, а потому допустимое только в частной сфере и в целом долженствующее отмереть. Вместе с этим – эволюционизм (впоследствии осложненный марксизмом), а также понимание религии как некоторого набора идей: теоретических – догматы, практических – заповеди, как ложного мировоззрения.
Исходя из этого у последующих философов и исследователей религии акцентируется их критика религии, причем выражается более или менее резкое недовольство по поводу ее недостаточной последовательнос
Чрезвычайно интересно здесь отношение к так называемой «теории обмана»: постоянно используя ее в практике антирелигиозной работы и в общем одобряя, марксистские теоретики критикуют ее именно как теорию — с их точки зрения, она приводит в качестве объяснения факт, который сам нуждается в объяснении, а потому — она как критическая теория недостаточно радикальна.
2. В этом смысле интерес представляет способ штамповки фигуры Гегеля, ранние работы которого толкуются как «прогрессивные», поздние же и более разработанные и фактически оказавшие реальное влияние на становление религиоведческой мысли — как «реакционные», а потому не заслуживающие принятия всерьез, а вместе с ними сюда же попадает и его критика просвещенческого подхода к религии в «Философии духа».
3. Фейербах. У него заимствуется идея о религии как неадекватном отображении земной реальности в сознании, неадекватной форме самопонимания человека. При этом – критика Фейербаха у Маркса, Энгельса и далее всегда была одной из важных точек отсчета марксистской мысли16 (ср. Лукачевский, Митрохин)
4. Маркс — религия как неадекватное отражение неадекватной земной реальности, форма идеологии, как правило реакционной, закрепляющей указанную неадекватность. Здесь же необходимо рассмотреть влияние книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и ее постепенную канонизацию17. Как говорит Маркс: «борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной усладой которого является религия» (К критике гегелевской философии права). Любое изучение религии получает, тем самым, смысл только в контексте этой «борьбы».
Существенный момент относительно Ф. и М. заключается в том, что восприятие их идей происходит путем сокрытия жизненного смысла их вопрошания и искания18. Ср. по этому поводу статьи Булгакова о них.
5. Последний пункт – радикализация Маркса у Ленина (в контексте общей радикализации интеллигентского этоса, как он описан в «Вехах», у большевиков). И дело не в самом по себе повышении градуса эмоциональности в его высказываниях (не всегда однозначных и когерентых, отдельный интерес представляет осуществленная советскими авторами выборка этих высказываний), а в том, что эта эмоциональность в суждениях классика и вождя, формируя определенное представление о человеческой ситуации исследователя и роли религии в этой ситуации, совершенно определенным образом формировала этические стандарты науки о религии в описанном выше смысле19.
Таким образом, обостренно-негат
В целом, мне кажется, что во всех случаях реальное влияние советского религиоведения (как бы к нему не относиться) нами недооценивается. В частности, одним из важных каналов этого влияния являются как раз наши представления об истории религиоведения — как западного, так и отечественного. Прежде всего, речь идет о наших представлениях о сравнительной значимости и роли в этой истории, о потенциальной научной продуктивности тех или иных научно-исследова
Однако проблема личной порядочности мне здесь как раз представляется второстепенной. Во-первых, потому что влияние риторики и социальных условий осуществлялось совершенно помимо нее, во-вторых, потому что общие условия игры и мировоззренчески